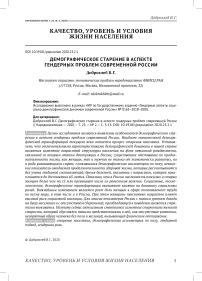Демографическое старение в аспекте гендерных проблем современной России
Автор: Доброхлеб Валентина Григорьевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Качество, уровень и условия жизни населения
Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования является выявление особенностей демографического старения в аспекте гендерных проблем современной России. Наиболее значительной демографической трансформаций текущего века остается процесс старения населения. Установлено, что отличительными характеристиками демографической динамики в нашей стране являются изменение возрастной структуры населения на фоне невысокой рождаемости, связанной со вторым этапом депопуляции в России; существенное отставание по продолжительности жизни, как женщин, так и мужчин не только от экономически развитых, но и ряда развивающихся стран; сложившаяся демографическая асимметрия по полу; невысокие показатели ожидаемой продолжительности здоровой жизни, которые рассчитываются без учета гендерной составляющей; бремя болезней, связанных с возрастом, которое накапливается до достижения 65-летия. Показано, что в России численность пожилых и старых женщин более чем на 15 млн превышает число их ровесников мужчин. Социальные, технологические, демографические трансформации оказывают влияние на динамику социальных ролей. Важнейшим изменением является рост доли женщин в сфере оплачиваемого труда по всему миру, в том числе и в России. При этом женщины пенсионных возрастов имеют высокий риск социальной изоляции. Для многих пенсионеров России с низким уровнем дохода на душу населения и с отсутствием сбережений, преобладающей в поведении является стратегия выживания. Поэтому сейчас актуальным становится изменение стереотипа женской старости, который обусловлен такими представлениями о ней, как отсутствие развития, неопрятный образ человека без пола и желаний, вызывающий физическое отторжение.
Старение населения, демографическая асимметрия по полу, гендерный подход, гендерная роль
Короткий адрес: https://sciup.org/143173648
IDR: 143173648 | DOI: 10.19181/population.2020.23.2.1
Текст научной статьи Демографическое старение в аспекте гендерных проблем современной России
подход, гендерная роль.
старение населения, демографическая асимметрия по полу, гендерный
Наиболее значительной демографической трансформаций текущего века остается процесс старения населения. Демографическая динамика оказывает влияние на все стороны жизни общества: трудовые и финансовые рынки, спрос на товары и услуги, в том числе жилищное строительство, транспорт и здравоохранение, социальную защиту. Меняется система социальных связей, в том числе в семье. При этом процесс демографического старения идет все более интенсивными темпами. Если в 2019 г. только 9% мирового населения составляли люди 65 лет и старше, то к середине текущего века их доля достигнет 16% мирового населения. В 2018 г. численность пожилых и старых людей превысила число детей и подростков. Быстрыми темпами увеличивается число лиц в возрасте 80 лет и старше, которое к 2050 г. утроится до 426 млн. человек. Высок разрыв в темпах старения населения между регионами и странами [1].
Сформировалось два различающихся подхода к оценке старения населения. С одной стороны, акцентируется внимание на его социально-экономических издержках, с другой — пожилые люди все чаще рассматриваются как полноценные участники процесса социально-экономического развития общества. В 1982 г. состоялась Первая Всемирная ассамблея ООН по проблемам старения. Был предложен Венский международный план действий по проблемам старения, содержащий 62 пункта. Через девять лет (1991 г.) Генеральная Ассамблея одобрила Принципы ООН в отношении пожилых людей из 18 пунктов, в которых сформулированы подходы к проблемам независимости, вовлеченности людей пожилого возраста, ухода за ними, самореализации и соблюдения достоинства старших возрастных групп общества. Международная конференция по старению (1992 г.), приняла План действий и Декларацию по проблемам старения. По предложению, принятому на этой конференции, Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила 1999 г. Международным годом пожилых людей. Вторая Всемирная ассамблея по проблемам старения состоялась в 2002 г. в Мадриде. В ее Плане действий по проблемам старения предлагалось на всех уровнях использовать потенциал пожилых людей [1]. Россия относится к числу стран с высоким уровнем старения населения. Прогнозы подтверждают продолжение изменений возрастной структуры населения нашей страны на долгосрочный период.
Три демографических процесса: рождаемость, смертность и миграция определяют динамику демографического старения. Ключевыми факторами старения населения являются снижение рождаемости и рост продолжительности жизни. Отмечено, что международная миграция может способствовать изменению возрастных структур населения в ряде стран и регионов. Спецификой национальной демографической динамики является не только старение население, но и сокращение его численности — депопуляция. Изменение возрастной структуры населения на фоне невысокой рождаемости обусловило второй этап депопуляции в России.
Численность постоянного населения России на начало 2020 г. составила 146,7 млн человек. Население страны продолжает сокращаться — за январь-февраль 2020 г. население уменьшилось на 30,4 тыс. человек или на 0,02%. За аналогичный период 2019 г. сокращение составило 99,7 тыс. человек (0,07%). Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 90,4%) [2]. В России в январе 2020 г., число умерших превышало число родившихся в 1,4 раза. В 44 субъектах Российской Федерации этот разрыв достигал 1,5–2,4 раза [3]. В последние годы в стране отмечено увеличение продолжительности жизни. Однако по этому показателю Россия существенно отстает не только от экономически развитых, но и ряда развивающихся стран (табл. 1).
Таблица 1
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в России и зарубежных странах, лет
Table 1
Average life expectancy in Russia and several foreign countries, years
|
Страна |
Средняя ожидаемая продолжительность жизни: |
||
|
оба пола |
мужчины |
женщины |
|
|
Россия |
72,9 (2018 г.) |
67,8 |
77,8 |
|
Бразилия |
75,1 (2016 г.) |
71,4 |
78,9 |
|
Китай |
76,4 (2016 г.) |
75,0 |
77,9 |
|
США |
78,5 (2016 г.) |
76,0 |
81,0 |
|
Германия |
81,1 (2017 г.) |
78,7 |
83,4 |
|
Япония |
84,2 (2016 г.) |
81,1 |
87,1 |
Источник: Российский статистический ежегодник — 2019. [Электронный ресурс] — Режим доступа: (дата обращения 15.03.2020).
Еще одной отличительной особенностью демографической динамики является дисбаланс соотношения полов в разных возрастных группах. Так, на начало 2019 г. численность населения России составляла 146,8 млн человек, в том числе мужчины 68,1 млн (46%), женщины 78,7 млн че-
Таблица 2
Численность мужчин и женщин по возрастным группам на 01.01.2019, тыс. человек
ловек (54%). Такое соотношение мужского и женского населения практически не менялось с конца 1980-х годов [4]. При этом в разных возрастах соотношение мужчин и женщин имеет существенные различия (табл. 2).
Table 2
The number of men and women by age group as of 01.01.2019, thousand people
|
Возраст |
Мужчины |
Женщины |
Разница +/- для женщин |
|
Моложе трудоспособного |
14076,1 |
13353,9 |
- 722,2 |
|
Трудоспособный |
42575,4 |
38786,3 |
- 3789,1 |
|
Старше трудоспособного |
11444,9 |
26544,1 |
+ 15099,2 |
|
Всего |
68096,4 |
78684,3 |
+10587,9 |
Источник: рассчитано по: Российский статистический ежегодник— 2019. [Электронный ресурс] — Режим доступа: (дата обращения 15.03.2020).
Одной из особенностей демографического старения является сложившаяся демографическая асимметрия по полу. Неблагоприятное соотношение полов в старших возрастных группах не может быть объяснено «эхом войны», так как население современной России в основном рождено после войны. Его общая численность, безусловно, могла быть существенно больше, если бы не значительные потери населения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Демографический гендерный разрыв по полу объясняется различным уровнем смертности мужчин и женщин. Эти различия формируются уровнем и ка- чеством жизни населения, а также гендерными особенностями поведения. Высокий уровень смертности мужчин, с одной стороны, обусловлен распространением вредных привычек (табакокурением, употреблением алкоголя и других), недостаточным уровнем самосохранительного поведения. С другой стороны, институциональными издержками, в числе которых недостаточно качественный уровень медицинского обслуживания, сокращение его доступности в малых городах и сельской местности, высокая стоимость эффективных лекарств и инновационных медицинских технологий, бедность.
Продолжительность жизни — важный показатель, однако, все большее значение приобретает не только продление продолжительности жизни, а возможность увеличения продолжительности здоровой жизни. Это становится главным критерием оценки эффективности социальной политики и охраны здоровья [5]. По результатам выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019 г., около 7% респондентов всех возрастов оценили состояние своего здоровья как плохое, в том числе около 1% ответили, что их здоровье «очень плохое». С возрастом самооценки здоровья существенно ухудшаются. При этом пожилые женщины состояние своего здоровья оценивают более негативно, чем их ровесники: 22,6% мужчин и 23,9% женщин старше трудоспособного возраста указали, что их здоровье плохое и очень плохое (табл. 3).
Росстатом была рассчитана ожидаемая продолжительность здоровой жизни (ОПЗЖ), что дает оценки числа лет, которые предстоит прожить без каких-либо серьезных проблем со здоровьем. Этот показатель составил в целом по стране 60,3 года. Выявлены региональные различии ОПЗЖ: минимум — у жителей Чукотского АО (49,1 года), максимум — в Республике Ингушетия (67,2 года). Росстат не приводит данных в расчете по полу и возрасту. К сожалению и в показателях Национальных проектов ОПЗЖ не предусматривает учета его гендерной специфики. По целям майского Указа Президента России от 2018 года, ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян к 2024 г. должна достигнуть 67 лет. Также этим указом предусмотрено повышение средней ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 г. и до 80 лет к 2030 г. [6].
Таблица 3
Самооценка состояния здоровья населением России,%
Table 3
Self-assessed health status of the Russian population,%
|
Группа населения |
Всего |
Самооценка состояния здоровья: |
||||
|
очень хорошее |
хорошее |
удовлетворительное |
плохое |
очень плохое |
||
|
Мужчины, в том числе: |
100,0 |
10,9 |
50,5 |
32,4 |
5,3 |
0,6 |
|
– моложе трудоспособного возраста |
100,0 |
20,2 |
67,3 |
11,6 |
0,8 |
0,1 |
|
– трудоспособного возраста |
100,0 |
10,6 |
54,8 |
31,2 |
2,9 |
0,3 |
|
– старше трудоспособного возраста |
100,0 |
0,7 |
13,9 |
62,6 |
20,1 |
2,6 |
|
Женщины, в том числе: |
100,0 |
7,4 |
44,6 |
38,5 |
8,3 |
1,0 |
|
– моложе трудоспособного возраста |
100,0 |
19,8 |
68,7 |
10,7 |
0,6 |
0,1 |
|
– трудоспособного возраста |
100,0 |
7,8 |
58,2 |
31,4 |
2,2 |
0,2 |
|
– старше трудоспособного возраста |
100,0 |
0,6 |
12,6 |
62,8 |
21,1 |
2,8 |
Источник: Выборочное наблюдение состояния здоровья населения — 2019. [Электронный ресурс] — Режим доступа: (дата обращения 15.03.2020).
Исследователи продолжают совершенствовать методологию оценки проблем старения населения, позволяющую сравнивать различия в старении населения, как на глобальном уровне, так и между странами. Определен ряд связанных с возрастом заболеваний из полного списка болезней. Во взаимосвязи с показате- лями смертности этот подход позволяет измерять как продолжительность жизни, так и здоровье населения, а также избежать установления произвольных возрастных порогов. Предложенные новые показатели дают возможность не только пользоваться сведениями хронологического возраста, но оперировать данны- ми о состоянии здоровья и степени тяжести заболеваний у стареющего населения. При этом, например, среди стран с аналогичными уровнями общего стандартизированного по возрасту бремени смертности, связанного с возрастом, модели накопления бремени болезней по возрастам различаются, некоторые группы населения несут бремя болезней в более раннем возрасте, чем другие. На глобальном уровне средний возраст старения составляет 65 лет. Для жителей Японии и Швейцарии средний возраст старения наступает в 76,1 года. В первую пятёрку медленно стареющих стран вошло население Франции (76 лет), Сингапура (76 лет) и Кувейта (75,3). У россиян набор болезней, характерный для старости, появляется в 59 лет. По этому показателю РФ заняла 160-ю позицию в составленном учёными рейтинге [7].
Международные документы, в том числе Глобальная стратегия и План действий ВОЗ по проблемам старения и здоровья на 2016–2020 гг. [8] показывают направления и меры для обеспечения широким слоям населения возможности прожить долгую и здоровую жизнь. Это особенно актуально в условиях демографических изменений, которые связывают с четвертым этапом эпидемиологического перехода. Новые подходы, в том числе ожидаемая продолжительность здоровой жизни, возрастного бремени болезней позволяют измерять не только продолжительность жизни, но и здоровье населения, могут придать дифференцированное направление действий в социальной политике в отношении стареющего общества.
Выявление особенностей процесса демографического старения в России имеет принципиальное значение для принятия решений в области социальной политики, к ним относится: изменение возрастной структуры населения на фоне невысокой рождаемости, связанной со вторым этапом депопуляции в России; существенное отставание по продолжительности жизни, как женщин, так и мужчин Россия не только от экономически развитых, но и ряда развивающихся стран; сложившаяся демографическая асимметрия по полу; невысокие показатели ожидаемой продолжительности здоровой жизни, которые рассчитываются без учета гендерной составляющей; бремя болезней, связанных с возрастом, которое накапливается до достижения 65-летнего возраста.
Более глубоко понять человека в современном многообразном мире позволяет использование гендерного подхода. Проблемы достижения гендерного равенства является частью многих международных программ и документов [9]. Гендерное равенство — это не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития [10]. В первом докладе по реализации Целей устойчивого развития в России отмечалось, что «неравенство мужчин и женщин существует». При этом оно объяснялось «сохранившимися элементами патриархального уклада жизни, а не неравенством возможностей» [11].
Вместе с тем, следует обратить внимание на гендерные роли в старших возрастных группах. Во многих странах женщины чаще, чем мужчины, доживают до преклонного возраста. В России также численность пожилых и старых женщин значительно превышает число их ровесников мужчин. Социальные, технологические, демографические изменения оказывают влияние на динамику социальных ролей. Важнейшим изменением является рост женщин в сфере оплачиваемого труда по всему миру, в том числе и в России. Численность семей с традиционными гендерными ролями, где женщина является только домохозяйкой и хранительницей домашнего очага, резко сократилась. В связи с этим остро встает вопрос о том, кто ухаживает за детьми и немощными лицами старшего возраста, заменяют или вытесняют меры государственной поддержки помощь внутри семьи или же государственная поддержка лишь дополняет ее [12]. Больше всего это связано с отсутствием членов семьи, которые мо- гут ухаживать за немощными пожилыми людьми, а именно они могут закрыть существенную брешь в заботе, с которой чаще всего сталкиваются женщины преклонных лет, потерявшие супруга и наиболее незащищенные в большинстве обществ в более позднем возрасте. Именно они составляют самый большой сегмент немощных людей старшего возраста, нуждающихся в уходе.
Женщины пенсионных возрастов имеют высокий риск социальной изоляции. Для России, как и для граждан, проживающих в странах с низким уровнем дохода на душу населения и с отсутствием сбережений, основой поведения остается стратегия выживания [13]. При этом сокращение смертности, улучшение качества жизни среди людей пожилого возраста определяется далеко не только качеством медицинской помощи. Существенное значение имеет здоровое питание, здоровые привычки, что зависит как от общей экономической ситуации, так и от материального благополучия граждан [14]. Однако труд- но говорить о предпосылках к долгой жизни в условиях падения реальных доходов населения, экономической нестабильности, международных санкций, пандемий.
В заключение можно сказать, что именно сейчас наиболее актуальной проблемой становится необходимость изменения стереотипа женской старости, который обусловлен с такими представлениями о ней, как отсутствие развития и неопрятный образ человека без пола и желаний, вызывающий физическое отторжение [15]. Сегодня необходим более высокий уровень медицины, пропаганда здорового образа жизни и ряд других мероприятий, которые должно исходить от государства и бизнеса. Эти действия не ограничиваются моральными инициативами, а требуют вложения определенных материальных средств в социальные программы, в том числе повышения уровня пенсионного обеспечения, широкого доступа пожилых людей к высокотехнологичным рабочим местам, возможности продолжать образование «через всю жизнь».
Список литературы Демографическое старение в аспекте гендерных проблем современной России
- Мировые демографические перспективы: пересмотренное издание 2019 года. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://population.un.org/wpp/ (дата обращения 10.03.2020).
- Социально-экономическое положение России — январь 2020 года. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://gks.ru/bgd/regl/b20_01/Main.htm (дата обращения 15.03.2020).
- Информация о социально-экономическом положении России — январь-февраль 2020 года. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://gks.ru/bgd/free/B20_00/Main.htm (дата обращения 05.03.2020).
- Российский статистический ежегодник — 2019. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://gks.ru/bgd/regl/b19_13/Main.htm (дата обращения 15.03.2020).
- Аганбегян А. Г. О продолжительности здоровой жизни и пенсионном возрасте // ЭКО. — 2015. — № 9.— С. 144-157.
- О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения 15.03.2020).
- Чанг А. Ю. Скирбекк В. Ф. Тироворас С. Кассебаум С. Дильман Дж. Л. Измерение старения населения: анализ исследования глобального бремени болезней 2017 года // Lancet Public Health. 2019. No. 4. P. 159-167. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.thelancet. com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(19)30019-2/fulltext (дата обращения 14.03.2020).
- Global strategy and action plan on ageing and health (2016-2020). [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/zdorove-licz-starshego-vozrasta/2741.html (дата обращения 14.03.2020).
- Воронина О.А. Конструирование и деконструкция гендера в современном гуманитарном знании // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. — 2019. — № 1. — С. 5-16.
- Цели в области устойчивого развития ООН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ (дата обращения 10.03.2020).
- Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. Цели устойчивого развития ООН и Россия. Краткая версия 2016 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://ac.gov.ru/ files/publication/a/11138.pdf (дата обращения 10.03.2020).
- Арбер С. Старение и гендер в глобальном контексте: роль семейного статуса / пер. с англ. Е. В. Выговской, А. А. Ипатовой // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. — 2016. — № 2. — С. 59-78.
- Бобровская О. Н. О стратегических задачах России и опыте Японии в создании рабочих мест для граждан нового возраста трудоспособности: экономико-правовое исследование // Успехи геронтологии. — 2019. — Т. 32. — № 6.— С. 870-881.
- Что не так с отчетами Минздрава о росте продолжительности жизни в России. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.znak.com/2019-08-2/chto_ne_tak_s_otchetami_ minzdrava_o_roste_prodolzhitelnosti_zhizni_v_rossii (дата обращения 10.03.2020).
- ЕлютинаМ.Э., Болотов Г. И. Освоение повседневности на пенсии: гендерный аспект // Изв. Сарат. ун-та. Серия Социология. Политология. — 2017. — № 4. С. 383-386.