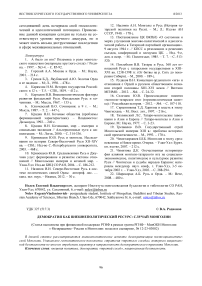Демократия как внешнеполитический ресурс: случай Монголии
Автор: Родионов Владимир Александрович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются внешнеполитические аспекты демократизации постсоциалистической Монголии. Уникальное геополитическое положение, стратегия «третьего соседа», интересы национальной безопасности во многом определили характер и направленность демократического транзита Монголии.
Внешняя политика, демократия, "третий сосед", национальная безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/148182026
IDR: 148182026 | УДК: 327
Текст научной статьи Демократия как внешнеполитический ресурс: случай Монголии
В качестве одного из наиболее значимых для Монголии политических итогов двух последних десятилетий называется ее успешный опыт демократических преобразований. Например, известная неправительственная организация Freedom House на протяжении последних десяти лет неизменно наделяет Монголию статусом «свободная страна» (free) [3]. Другая неправительственная организация Economist Intelligence Unit, ежегодно определяющая Индекс демократий (Democracy Index), в 2012 г. обозначила Монголию как «несовершенную демократию» (flawed democracy), поставив на 65-е место в списке из 167 стран мира [16]. Ряд авторов с изумлением и одновременно с восхищением констатирует удачный демократический транзит Монголии и наличие в стране развитой демократической системы [14, 15, 17]. Действительно, стандартный набор основных формальных признаков демократического режима – открытые и состязательные выборы, сменяемость власти, свобода СМИ, развитое гражданское общество – свидетельствует об успешном опыте демократизации страны за последние два десятилетия ХХ в. постсоциалистической истории. Данные обстоятельства порождают закономерный вопрос о факторах, определивших успех Монголии.
Дискуссии об онтологическом статусе монгольской демократии появились практически сразу после ее провозглашения в начале 1990-х гг. и носят довольно острый характер. Не отрицая важнейшей роли эндогенных факторов демократизации Монголии (они варьируются в диапазоне от историко-культурного наследия, или «кода монгольской цивилизации», до практических действий монгольской политической элиты, повлиявших на демократизацию страны), в данной статье мы сосредоточимся на исследовании факторов экзогенного характера.
Для начала необходимо обратиться к исторической ситуации, в условиях которой Монголия официально провозгласила курс на демократизацию всех сторон общественной жизни. Стремительные изменения в СССР и социалистических странах Восточной Европы стали важнейшим катализатором политических процессов в МНР второй половины 1980-х – нач. 1990-х гг. Политика «перестройки» в МНР по многим параметрам напоминала одноименную политику М.С. Горбачева в Советском Союзе. В качестве основных ценностей изменяющегося общества провозглашались гласность, плюрализм мнений, децентрализация системы управления народным хозяйством, открытость для диалога с внешним миром [1]. Веянием политической моды эпохи позднего социализма можно считать и введение в сентябре 1990 г. поста президента МНР по аналогии с аналогичными мероприятиями в СССР и странах Восточной Европы (Польша, Венгрия).
Дальнейшее падение политических режимов в социалистических странах произошло на фоне принятия новыми властями ценностей либеральной демократии. Монголия не явилась в этом плане исключением, став первой постсоциалистической страной в Азии, начавшей осуществлять одновременно политические и экономические реформы либерально-демократического характера. В начале 1990-х гг. стремительное обновление политической системы Монголии шло в русле мировой «третьей волны демократизации». Ориентиром для политических элит демократизирующихся стран выступали теоретические конструкции ряда западных политологов (А. Пшеворского, Ф.К. Шмиттера, Х. Линца и других), рассматривавших принятие ценностей рыночной экономики как залог укрепления демократических институтов.
При анализе обстоятельств перехода к радикальным демократическим реформам в бывших социалистических странах специалисты среди прочих обстоятельств выделяют «наличие такого международного контекста (в том числе и институционального), который оказывается специфически благоприятным для стимулирования перехода от авторитаризма к более демократическим формам правления» [2, с. 340]. Иными словами, первым фактором, обусловившим начало демократического транзита Монголии, стал международно-политический контекст позднего социализма, основанный на делегитимизации коммунистической идеологии и признании либеральной демократии оптимальным вариантом для дальнейшего общественного развития.
Однако опыт далеко не всех стран, в начале 1990-х гг. провозгласивших цель – построение демократического общества, может быть признан удачным. Траектории демократических транзитов ряда стран постсоветского пространства привели к установлению авторитарных режимов различной модификации. Монголия же, несмотря на противоречивый характер результатов собственных либеральных реформ, сохранила приверженность демократическим ценностям и институтам. В связи с этим целесообразно говорить о наличии иных факторов, обусловивших подобное развитие событий.
Один из таких факторов представлен регионально-политической обстановкой, сложившейся вокруг Монголии в последние два десятилетия. На протяжении почти семидесяти лет гарантом национальной безопасности и независимости Монголии являлся Советский Союз. С распадом СССР и стремительным сокращением интенсивности российско-монгольских взаимоотношений в начале 1990-х гг. исчезли прежние гарантии безопасности. Одновременно с этим основным источником потенциальных вызовов и угроз для страны по-прежнему воспринимался Китай, который, как считали многие в Монголии, способен экономически (а потенциально, и политически) поглотить Монголию. В сложившейся ситуации Улан-Батор, провозгласив стратегию многоопорной (олон тулгуурт) внешней политики [8], начал активно развивать военные, политические, экономические, гуманитарные связи с такими внерегиональными странами, как США, Япония, Республика Корея, Германия, Турция, Индия и др. Такая стратегия получила образное наименование «третий сосед» («гурав-дугаар хøрш») [9]. Суть стратегии «третьего соседа» сводится к попытке уравновесить влияние на Монголию двух ее географических соседей – России и КНР – за счет третьих стран. При этом большинство стран, попадающих под категорию «третий сосед», представляют Запад и его союзников и традиционно маркированы как члены мирового демократического сообщества. Поэтому в политических взаимоотношениях Монголии с «третьим соседом» идеологический фактор с самого начала играл не последнюю роль.
В ходе официальных встреч и переговоров монгольских руководителей с американскими, европейскими, японскими, южнокорейскими партнерами неотъемлемым атрибутом выступает указание на общность демократических ценностей и поддержку развития демократии в Монголии. Например, во время официального визита в США в июне 2011 г. президента Монголии Ц. Элбэг-доржа американским президентом Б. Обамой была подчеркнута «взаимная заинтересованность двух стран в защите прав человека, демократии и сво- боды», а сама Монголия была названа «моделью демократических реформ в регионе» [4]. Об «образцовости монгольской демократии» неоднократно высказывались госсекретарь США Х. Клинтон [18], вице-президент США Д. Байден [12] президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун [7, с. 8]. При этом в западном экспертном сообществе и медиапространстве постоянно подчеркивается уникальность демократической Монголии, «окруженной со всех сторон авторитарными режимами» [14, 15, 17].
Важным каналом по продвижению демократических ценностей в Монголию является монголо-американское военное сотрудничество, в т. ч. через структуры НАТО. Посредством обучения монгольских офицеров, совместных военных учений («В поисках хана» («Khan quest»), «Тихоокеанский ангел», «Гобийский волк»), финансово-технической помощи, совместных операций в Ираке и Афганистане американская сторона прививает Монголии собственные идеологические нормы, формирует новые уровни внешнеполитической лояльности и идентичности. Во время визита в Монголию 26–27 мая 2011 г. делегации НАТО во главе с заместителем генсека по безопасности и политическим отношениям Д. Аппатураем были затронуты вопросы углубления дальнейшего сотрудничества между Монголией и НАТО и «выведения их отношений на новый уровень». Очевидным интересом натовской стороны в этом визите был вопрос о продолжении военного присутствия монгольских солдат в Ираке и Афганистане. Также особо были подчеркнуты такие основания для сотрудничества между Монголией и НАТО, как «демократия и общность ценностей» [5].
Помимо двусторонних межгосударственных отношений со странами Запада и его союзниками не менее значимыми являются отношения Монголии с международными организациями, продвигающими ценности демократии. В июле 2011 г. Монголия впервые заняла место председателя в Сообществе демократических государств мира. В 2003 г. Монголия принимала V Международную конференцию стран, установивших и восстановивших демократию. Участие в подобных организациях требует от Монголии следования определенным правилам и нормам. В частности, транспарентность процесса принятия решений, активное вовлечение в политический процесс женщин и представителей национальных меньшинств, гражданский контроль над армией и т.п.
В целом вопросы обеспечения безопасности Монголии через сотрудничество с Западом тесно увязываются с приверженностью демократи- ческим ценностям. Наличие и развитие демократического режима рассматривается Улан-Батором и его западными партнерами как важный фактор национальной безопасности. По словам посла США в Монголии Д. Эддлтона, «демократия – один из пяти столпов американомонгольских отношений» [10].
Третьим, тесно связанным с интересами национальной безопасности Монголии фактором являются экономические интересы Монголии, вызванные острой потребностью страны во внешних финансовых дотациях, кредитах и инвестициях.
Социально-экономический кризис международной социалистической системы рубежа 1980–1990-х гг. автоматически распространился и на МНР, чья экономика была практически полностью включена в хозяйственный механизм СССР. По оценкам западных специалистов, объем внешнего финансирования страны за период 1989–1991 гг. сократился с 53 (от размера ВВП Монголии) до 7% [13, с. 41]. В свою очередь, резкое сокращение поставок товаров первой необходимости из Советского Союза и стран СЭВ вызвало падение уровня жизни значительной части населения Монголии и стремительный спад производства.
В этой ситуации провозглашенный в начале 1990-х гг. курс на демократическое развитие стал важным источником для привлечения внешней финансово-экономической помощи. США, Япония, страны Западной Европы, желая поддержать «зарождающуюся демократию в центре Азии», начали оказывать Монголии материально-техническую помощь. США поддержали Монголию при ее вступлении в торговоэкономические и финансовые организации – ВТО, МВФ, Всемирный банк, Азиатский банк развития. Япония выступила инициатором движения стран-доноров в поддержку демократических преобразований в Монголии и перехода ее к рыночной экономике. Только в период с 1993 по 1997 г. японская помощь составила в сумме $507 млн [11, с. 203]. Начиная с 1991 г. и по настоящее время Япония является крупнейшим международным донором Монголии, а японское международное агентство по сотрудничеству управляет большинством программ японской помощи Монголии.
На экономическое развитие Монголии опосредованное влияние оказывают ее оценки в различных рейтингах демократий. Главными экспертами в оценке монгольской демократии являются западные НПО. Положительные оценки монгольской демократии этими НПО дают возможность Монголии улучшить свой имидж как демократической страны, что, в свою очередь, способно повлечь за собой экономические выгоды – новые льготные кредиты и финансовую помощь западных стран, улучшение инвестиционного климата.
Тема «общности политических ценностей» неизменно подается «в одном пакете» с вопросами торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Монголией и западными странами. Так, в ходе беседы Ц. Элбэ-гдоржа и Б. Обамы (в рамках официального визита монгольского президента в США в июне 2011 г.) сторонами были отмечены «значимость защиты и развития демократии, прав и свободы человека, являющиеся общими интересами двух стран… а также важность интенсификации торгово-экономического сотрудничества» [4].
Таким образом, приверженность демократическим принципам для Монголии во многом является средством обеспечения национальной безопасности, суверенитета, экономического развития и международного престижа. В этом контексте можно рассматривать процесс демократических преобразований на рубеже ХIХ–ХХ вв. в такой стране, как Монголия, в качестве тенденции политического развития мира, в реализации которой не менее важными по сравнению с эндогенными факторами оказываются факторы экзогенного характера, представленные международной средой.