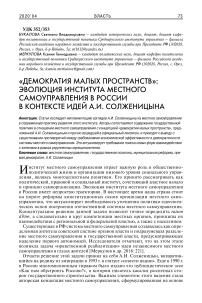"Демократия малых пространств": эволюция института местного самоуправления в России в контексте идей А.И. Солженицына
Автор: Букалова Светлана Владимировна, Меркулова Ксения Геннадьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья исследует имплементацию взглядов А.И. Солженицына на местное самоуправление в современную практику развития этого института. Авторы сопоставляют содержание государственной политики в отношении местного самоуправления с концепцией «демократии малых пространств», предложенной А.И. Солженицыным и прочно вошедшей в официальный лексикон и приходят к выводу о существовании противоречий между требованиями экономической эффективности и демократичности системы местного самоуправления. Это актуализирует требование поиска новых форм взаимодействия с жителями в рамках укрупненных муниципалитетов.
Местное самоуправление, государственная политика, муниципальная реформа, прямая демократия, а.и. солженицын
Короткий адрес: https://sciup.org/170171200
IDR: 170171200 | УДК: 352/353 | DOI: 10.31171/vlast.v28i4.7431
Текст научной статьи "Демократия малых пространств": эволюция института местного самоуправления в России в контексте идей А.И. Солженицына
Существующая в РФ система местного самоуправления создавалась как определенная антитеза советской системе органов власти и подразумевала разделение местного самоуправления и государственной власти, предусматривающее наделение первого автономией. Исследователи отмечают, что на этом этапе возникла задача «нравственной реабилитации» идеи независимого местного самоуправления в глазах жителей [Меркулов и др. 2018: 221].
Отчасти решение этой задачи принял на себя А.И. Солженицын, возвратившийся на родину из эмиграции в 1993 г. в статусе «совести нации». Еще в 1990 г. в России многомилионным тиражом было издано его публицистическое эссе «Как нам обустроить Россию?», в котором писатель касался различных сторон государственного строительства. Важным элементом этого видения стала авторская концепция местного самоуправления, сформулированная на основе знакомства с организацией самоуправления в Швейцарии и США, а также на представления о земском опыте дореволюционной России. Впоследствии писатель неоднократно возвращался к этой волнующей его тематике.
Оригинальные идеи А.И. Солженицына о местном самоуправлении заключают в себе прежде всего утверждение его как института гражданского общества, лежащего в основе всей системы государственного устройства, «школы управления» и «школы политики». Писатель призывал к развитию прямой демократии, возможной в масштабах поселений, справедливо считая ее более эффективной формой воспитания ответственности за положение дел на местах, нежели демократия представительная.
А.И. Солженицын исповедовал идею деполитизированной системы местного самоуправления, основанной на поселенческом принципе и личном доверии, наиболее приближенной к жителям. Более того, ее он расценивал как базовую ступень всего государственного устройства, выстроенного снизу вверх «всероссийского земства».
Важно, что российская власть на высшем уровне прислушивалась к мнению Нобелевского лауреата. 12 июня 2007 г. А.И. Солженицыну была заочно вручена Государственная премия РФ; В.В. Путин лично посетил писателя, чтобы поздравить его с этим событием. Президент беседовал с Александром Солженицыным о текущем положении России и о будущем государства. Путин обратил внимание, что некоторые шаги, которые предпринимаются властью, созвучны тому, что писал Солженицын. В свою очередь А. Солженицын обратил внимание на то, что муниципалитетам предоставляется все больше возможностей1. Через несколько месяцев писателя не стало.
В одном из своих последних интервью Александр Солженицын признавал, что современная Россия по государственному устройству, своему общественному состоянию и экономическому положению весьма далека от его идеала. Это страна со своими недостатками и со своим обязанностями к развитию2. Писатель настаивал на исключении партийного начала из практики самоуправления, вывода его из-под диктата региональной власти. «Без правильно поставленного местного самоуправления не может быть добропрочной жизни, да и само понятие “гражданской свободы” теряет смысл», – был уверен писатель [Солженицын 1995: 589].
Именно эти слова Солженицына цитирует В.В. Путин в своей предвыборной статье «Демократия и качество государства»3, излагающей концептуальное представление о роли местного самоуправления в государственном управлении и общественной жизни. Раздел о местном самоуправлении имеет красноречивый подзаголовок: «Местное самоуправление – школа демократии». Местное самоуправление видится прежде всего как действенный институт, демократия малых пространств и власть шаговой доступности. Подчеркивалась необходимость прямой подотчетности местных властей жителям. Наряду с этим в статье был сделан акцент на обеспечении партнерских взаимодействий губернаторов с мэрами, региональными и городскими законодательными собраниями.
Высказанные принципы становления независимой и при этом подотчетной жителям власти на местах получил развитие и в последующих публичных выступлениях президента РФ. В его послании 2012 г. ставилась цель развития прямой демократии, непосредственного народовластия1; в послании 2013 г. как один из приоритетов было определено повышение уровня доверия жителей: «Местная власть должна быть устроена так – а ведь это самая близкая власть к людям, – чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой»2. Подчеркивалось, что через механизм выборов во власть должны приходить подготовленные, целеустремленные, профессиональные люди.
В этих рамках законодательно был введен новый вид муниципальных образований, которые могут быть созданы в соответствии с законом субъекта РФ, – городской округ с внутригородским делением и городской район соответ-ственно3. Тем самым были созданы правовые возможности для того, чтобы приблизить к жителям муниципальный уровень власти в больших городах. Справедливости ради надо сказать, что к подобному муниципальному устройству перешли всего три российских города – Челябинск, Самара и Махачкала.
Поправки, внесенные в 2014 г. в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», существенно повысили роль региональной власти в построении структуры местной власти: способ формирования, содержание и срок полномочий, подотчетность и подконтрольность органов МСУ определяются уставом муниципального образования в соответствии с региональным законодательством. Кроме того, региональная власть получила возможность определять модель управления муниципалитетами: избрание глав муниципальных образований голосованием жителей или же делегирование этого права представительному органу, после чего отмена прямых выборов мэров стала массовой. По мнению исследователей, распространение модели «совет – менеджер» стало элементом авторитарной трансформации субнационального уровня российской политики и не привела к видимому повышению эффективности местного управления [Golosov, Gushchina, Kononenko 2016: 523]. Также поправки, внесенные в закон № 131, наделили региональную власть правом перераспределять некоторые полномочия между субъектом федерации и муниципалитетом.
Позже федеральный закон4 расширил перечень способов избрания местных представительных органов и наделения полномочиями глав муниципалитетов, из числа которых субъект РФ вправе выбирать наиболее оптимальный для себя: теперь высшее должностное лицо муниципального образования может избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Повсеместное распространение приобрело разделение постов главы муниципального образования (мэра) и главы городской администрации, внедрение института наемного сити-менеджера. При этом еще с 2011 г. на муниципальных выборах депутатов городского округа либо муниципального района допускается распределение части мандатов по партийным спискам, что расширяет партийный принцип в организации местного самоуправления.
Известные события 2014 г. на определенное время переключили внимание власти с внутренней повестки на внешнеполитическую. В дальнейшем в сфере МСУ вновь на первый план вышли вопросы вовлечения жителей в процесс местного самоуправления. На очередном заседании Совета по развитию местного самоуправления, состоявшемся 5 августа 2017 г. в Кирове, приоритетом в работе местной власти был назван диалог, стремление получить обратную связь1. Практическим полем взаимодействия местной власти и жителей стало благоустройство общественных пространств в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. На Всероссийском совете местного самоуправления 25 декабря 2017 г. президент РФ призвал более активно привлекать к этой работе молодежь, а также поощрять общественные инициативы2. В своем предвыборном послании 2018 г. В.В. Путин озвучил основополагающую мысль: «Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей»3.
Таким образом, развитие местного самоуправления, с одной стороны, было вписано в общий тренд развития демократии и гражданского общества (что подчеркивает его «низовую», самоорганизующуюся природу), с другой – увязано с вопросами создания комфортной среды проживания.
При этом в законодательство о местном самоуправлении вносятся важные изменения. В апреле 2017 г. Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий региональным властям проводить преобразование муниципальных районов в городские округа с упразднением двухуровневой системы организации местного самоуправления4. На заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 27 апреля 2017 г. прошло обсуждение проблем и перспектив реализации в этом контексте права граждан на участие в местном самоуправлении, где была дана резко негативная оценка этой новации; указывалось, что декларируемые задачи повышения эффективности управления территориями «не соответствуют предназначению и сущности местного самоуправления как формы осуществления населением своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения, ‹…› важнейшего института согласования интересов населения и бизнеса во благо именно населения»5.
На первый взгляд, мы видим разнонаправленные и противоречивые тенденции в развитии института МСУ в России. Отправной точкой муниципальной реформы 2003 г. была идея приближения местной власти к населению. Предполагалось, что таким образом система управления на местах станет более гибкой и сможет эффективнее решать вопросы непосредственного жизнеобеспечения. Число муниципалитетов в РФ возросло вдвое. Почти сразу после этого начался процесс объединения муниципальных образований, вышедший на новый уровень в связи с распространением модели городских округов.
При этом на официальном уровне в качестве приоритета выдвигается укрепление связи органов местного самоуправления с населением, повышение их открытости для гражданских инициатив на местах, развитие доверия жителей к нижнему уровню публичной власти. Для снятия этого противоречия следует принять во внимание задачи, решаемые публичной властью во всей ее полноте. В самом кратком виде их можно представить как обеспечение национальной безопасности и повышение качества жизни граждан. На уровне местных сообществ эти задачи решаются преимущественно в форме реализации разнообразных программ социально-экономического развития территории. Жители вправе требовать от муниципалитетов, в которых они проживают, более качественных и дешевых услуг. Удовлетворение данного запроса требует укрупнения муниципалитетов, которое становится необходимым следствием технического и финансового развития. На современном этапе дробность управленческой структуры становится препятствием для эффективного функционирования системы муниципального управления: подавляющее число российских муниципалитетов нижнего и даже районного уровня не располагают собственными ресурсами для исполнения возложенных на них полномочий.
Как отмечают исследователи, за рубежом достаточно активно происходит трансформация территориальных основ организации местного самоуправления в соответствии с необходимостью повышения эффективности оказываемых местными властями услуг и снижения их себестоимости. Укрупнение муниципальных образований было повсеместным уже в послевоенной Европе [Целищева 2014: 19]. Очередной импульс эти процессы получили в начале XXI в. Так, в Греции число муниципалитетов сократилось в 18 раз; в Дании осталось всего 98 муниципалитетов [Либоракина 2003: 234]. По тому же пути пошли и постсоветские государства, имевшие сходный с Россией опыт создания системы местного самоуправления «с чистого листа»: в Латвии был ликвидирован районный уровень местного самоуправления, его полномочия перешли «вниз», к укрупненным общинам, а общее число муниципалитетов уменьшилось с 500 до 118. В Грузии, напротив, был упразднен низший уровень самоуправления – сельский и поселковый, базовым звеном местного самоуправления здесь стали 65 крупных муниципалитетов – бывших муниципальных районов1.
В Соединенных Штатах более 80% населения проживает в урбанизированных агломерациях (метрополитенские ареалы), в которых действует большое число органов муниципального управления и муниципальных корпораций, координация между которыми весьма затруднительна. Множественность юрисдикций ведет также к утрате субъективного чувства местного сообщества, потере интереса жителей к местному самоуправлению [Черкасов 2015: 151-153].
Даже в Швейцарии – еще одной стране, которая упоминалась
А.И. Солженицыным в качестве эталона непосредственной демократии, – только с 2000 по 2014 г. стало на 20% муниципалитетов меньше1.
Если в западных странах старые общины стали слишком малы для новых реалий, но при этом новые технологии оказались способными обеспечить доступность местной власти безотносительно к размеру муниципалитета, то в России понятие местного сообщества как активного субъекта местного самоуправления до настоящего времени практически не использовалось. Муниципальное образование как правовая и управленческая категория существует прежде всего в территориальном, а не социальном измерении. Соответственно, укрупнение муниципальных образований может рассматриваться как механический процесс экономически обусловленного изменения политико-административных границ. При этом следует иметь в виду, что укрупненные муниципалитеты также будут нуждаться в современных социальных технологиях вовлечения жителей в процесс местного самоуправления, таких, например, как публичные слушания, «народный бюджет», местные референдумы и проекты поддержки местных инициатив. Особое место в этом ряду отведено территориальному общественному самоуправлению как уникальной форме самоорганизации жителей на уровне локального сообщества.
В свое время А.И. Солженицын акцентировал внимание на непосредственном участии жителей в самоуправлении – прямой демократии, или же «демократии малых пространств». Очевидно, что практическая реализация этого пожелания должна базироваться на наличии мелких самоорганизующихся и самоуправляющихся объединений внутри городских и сельских поселений, остающихся преимущественно формальными территориальными единицами.
Стартовавшая в 2020 г. конституционная реформа затронула основы организации местного самоуправления. Согласно новой редакции гл. 8, «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации»2. В рамках своего визита в Череповец В.В. Путин развернуто прокомментировал реформы в сфере организации местного самоуправления. По мнению президента, «должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу, а те, кто работает в муниципалитетах, были связаны определенным образом со страной и ее интересами»3.
Из вышеизложенного видно, что в эволюции института местного самоуправления развитие вертикальных связей с уровнями государственной власти преобладает над совершенствованием горизонтальных сетевых взаимодействий. Однако вовлечение жителей в решение местных проблем по-прежнему остается актуальным. Необходимый баланс «вертикальной» и «горизонтальной» проекции института МСУ должен найти свое отражение в обновленных Основах государственной политики в области местного самоуправления до 2030 года, разработка которых была поручена правительству РФ по итогам очередного заседания Совета по развитию местного самоуправления, прошедшего
30 января 2020 г.1 Вкупе с расширяющимся кругом неполитической гражданской активности (волонтерское движение, общественные проекты и т.п.) это создает социальную ткань, необходимую для полнокровной жизни подлинного местного самоуправления.
Список литературы "Демократия малых пространств": эволюция института местного самоуправления в России в контексте идей А.И. Солженицына
- Либоракина М.И. 2003. Зарубежный опыт организации местного самоуправления. - Полития. № 4(31). С. 225-237
- Меркулов П.А., Васютин Ю.С., Ливцов В.А., Цыбаков Д.Л. 2018. Общинное и местное самоуправление: история от Античности до Новейшего времени: научная монография. Орел: Изд-во Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС. 240 с
- Солженицын А.И. 1995. Как нам обустроить Россию (посильные соображения). - Публицистика: в 3 т. Ярославль: Верхняя Волга. Т. 1. С. 538-599
- Целищева Е.Ф. 2014. Тенденции изменения территориальной организации местного самоуправления в регионах России и за рубежом. - Муниципалитет: экономика и управление. № 3(8). C. 13-21
- Черкасов А.И. 2015. Местное управление в США: современные проблемы и перспективы. - Труды Института государства и права РАН. № 6. С. 147-167
- Golosov G.V., Gushchina K., Kononenko P. 2016. Russia's Local Government in the Process of Authoritarian Regime Transformation: Incentives for the Survival of Local Democracy. - Local Government Studies. Vol. 42. Is. 4. P. 507-526