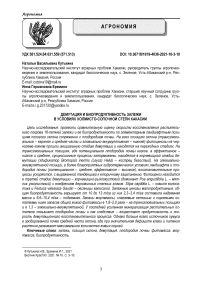Демутация и биопродуктивность залежи в условиях холмисто-сопочной степи Хакасии
Автор: Наталья Васильевна Кутькина, Инна Германовна Еремина
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Агрономия
Статья в выпуске: 10, 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования: провести сравнительную оценку скорости восстановления растительного покрова 18-летней залежи и ее биопродуктивности по элементарным ландшафтным позициям пологого склона сопряженно с плодородием почвы. На всех позициях склона (трансэлювиальные – верхняя и средняя части и элювиально-аккумулятивная – нижняя) фитоценозы на черноземе южном прошли инициальную стадию демутации и находятся на переходных стадиях. На трансэлювиальных позициях, где потенциальное плодородие почвы низкое, а эффективное – низкое и среднее, сукцессионные процессы заторможены, находятся в корневищной стадии демутации (эдификатор Bromopsis inermis (Leyss) Helub – кострец безостый). На элювиально-аккумулятивной позиции, в более благоприятных гидротермических условиях ландшафта и плодородия почвы (потенциальное – среднее, эффективное – высокое), восстановительные процессы ускоряются, с выраженной тенденцией к вторичному зацелинению. Фитоценоз находится в третей стадии демутации – корневищно-рыхлокустовой (доминант Poa angustifolia L. – мятлик узколистный) с внедрением дерновинных степных злаков: Stípa capilláta L. – ковыля волосатика и Festuca valesiaca Gaudin – овсяницы валисской. Залежные ценозы малопродуктивные, общая биопродуктивность варьирует от 10 до 13 т/га из них 2,3–3,4 т/га составила надземная масса и 6,6–10,4 т/га – подземная. Запасы мортмассы, слагаемые ветошью и корневыми остатками ниже запасов общей живой фитомассы в 1,8–2,0 раза – на трансэлювиальных позициях и в 1,3 – элювиально-аккумулятивной. У последней усиленная минерализация растительных остатков повышает плодородие почвы и как следствие – возрастают продуктивность и скорость демутационного восстановительного процесса. Однако больше всего источников гумуса в эродированной почве средней части склона, где при значительном дефиците влаги и питания растения развивают максимальное количество живых корней.
Залежь, позиция склона, демутация, плодородие почвы, фитомасса, мортмасса, биопродуктивность.
Короткий адрес: https://sciup.org/140257826
IDR: 140257826 | УДК: 581.524.84:631.559 (571.513) | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-10-3-10
Текст научной статьи Демутация и биопродуктивность залежи в условиях холмисто-сопочной степи Хакасии
Введение. Вторичные смены растительности после перехода пашни в залежь изучены довольно хорошо, в том числе и в Хакасии. В классическом виде они представлены четырьмя стадиями: 1 – бурьянной (с господством 1–2-летних видов сорного разнотравья и полыней); 2 – корневищных злаков (Bromopsis inermis Leyss. Helub – кострец безостый, Elytigia repens L. – пырей ползучий, Leums ramosus Trin. Tzvel. – колосняк ветви-стый-вострец и др.); 3 – рыхлокустовых злаков (Phleum phleoides L. Karst – тимофеевка степная – до 60-х годов XX века в Хакасии являлась моно-доминантом) [1]. После массовой распашки целины в чистом виде стадия господства тимофеевки отмечалась крайне редко. Широкое распространение с этого времени получили корневищнорыхлокустовые злаки: Poa angustifolia L. – мятлик узколистный, а по более увлажненным местам Poa pratensis L. – мятлик луговой. Завершают сукцессию вторичного зацелинения плотнодерновин- ные злаки (Stípa capilláta L. – ковыль волосатик, или тырса, Stipa krylovii Roshev – ковыль Крылова, Festuca valesiaca Gaudin – овсяница валисская– типчак и т.п.) [1–3]. В Хакасии в связи с увеличением площади пашни с 40–50 тыс. га в 30-е годы прошлого века до 650–700 тыс. га и более в годы массовой распашки целины продолжительность демутации залежи возросла с 10–12 лет до 30– 35 лет и более по причине деградации почвы и уменьшения площади целинных земель [2–4]. Высокие темпы и сокращенный период восстановления залежной растительности в степях России в XIX, начале XX века подтверждаются другими авторами [5]. Время восстановления растительности и плодородия почв в залежной сукцессии значительно различается, более продолжительно восстановление плодородия на опустыненных землях, подвергнутых консервации, оно может длиться веками [6]. Этот процесс ступенчатый и зависит от многих причин: продуктивности растительно- сти, физических и биологических условий в почве, поступления органического вещества (ОВ) в почву, интенсивности ее разложения и др. [7, 8]. Пространственно-временные изменения в постагро-генных почвах характеризуются одной и той же закономерностью - аккумуляцией большого количества ОВ в молодых залежах (бурьянная, бурьянно-корневищная стадии), в основном за счет ежегодного отмирания надземной фитомассы и образования значительного количества мортмас-сы на поверхности почвы, способствующих активному гумусообразованию именно на начальных стадиях зацелинения [9, 10]. В литературе имеются ограниченные экспериментальные данные по восстановлению залежных земель на разных экспозициях и элементарных ландшафтных позициях склонов, что весьма важно для выявления взаимовлияния растительности и почвы в условиях катены, а также рационального использования их в сельскохозяйственном производстве.
Цель исследования. Сравнительная оценка скорости восстановления растительного покрова 18-летней залежи и ее биопродуктивности по элементарным агроландшафтным позициям пологого склона сопряженно с плодородием почвы.
Материалы и методы. Исследуемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Боградскому холмисто-сопочному степному району левобережной части Минусинской котловины, расположенному в прие-нисейской полосе [11]. Рельеф агроландшафтов представлен покатыми склонами северовосточной экспозиции и пологими - юго-восточной и южной. Географические координаты местоположения: 54°40′514˝северной широты и 90°42′371˝ восточной долготы. Климат резко континентальный (коэффициент континентальности составляет 212, годовой коэффициент увлажнения - 0,77) [12]. Подрайон умереннопрохладный, недостаточно увлажненный. Сумма активных суточных температур выше 10 °С в среднем составляет 1700 °C. Объектом исследования послужил массив залежи площадью 1000 га, расположенный на длинном (2500 м) пологом склоне (уклон 1,5°) юго-восточной экспозиции. Изменение рельефа по склону плавное. Пашня подверглась консервации в 1995 г. и с 2008 по 2013 г. на ней проводилось сенокошение. Залежь находится в землепользовании крестьянско-фермерского хозяйства «Андриа-новский», развивающего животноводство мясного направления и в дальнейшем нацеленного на вовлечение залежи в севооборот. Полевые изыскания были выполнены в августе 2013 г. (18-летняя залежь). Материалы не были опубликованы в научной литературе, а были выполнены в виде отчета по хоздоговорной работе. Планировалось проведение мониторинга через 5 лет, однако весной 2018 г. нижнюю и верхнюю части склона фермер распахал.
Восстановительные сукцессии растительности и плодородия почв рассматривали на разных частях склона. Выбор линии геоморфологического профиля производился так, чтобы профиль пересек наиболее типичные формы рельефа и отразил разнообразие растительного и почвенного покрова ландшафтных позиций. На склоне по методике [13, 14] выделены элементарные ландшафты: трансэлювиальная (ТЭ1 -верхняя и ТЭ2 - средняя части склона) и элювиально-аккумулятивная (ЭА - нижняя часть склона). На позициях склона с помощью GPS фиксировались координаты и высота над уровнем моря. Площадь элементарных ландшафтов составила: 220 га - на ТЭ1, 250 - на Тэ2 и 530 га -на ЭА. В центре каждого участка на площади 100 м2 проводилось описание видового состава сообщества. Определяли проективное покрытие и встречаемость видов растений. Надземную массу фитоценозов учитывали на площадках 0,5х0,5 м в 10-кратной повторности, в том числе и содержание ветоши.
Методом сопряженного анализа количественных параметров (обилия и фитоценотиче-ской значимости видов с жизненными формами) определяли место и роль в восстановительной сукцессии. Учет массы корней проводили методом почвенного монолита [15]. Монолиты отбирали с площадок размером 0,25х0,25 м из генетических горизонтов (Адерн, А, АВ, Вса), с последующей отмывкой корней на ситах с отверстиями 3; 2 и 1 мм. Запасы фитомассы и мор-тмассы измеряли в т/га сухого вещества. При изучении структуры почвенного покрова проводилось описание морфологического строения профиля почв. На каждой позиции закладывали по три разреза с прикопками, отбирали образцы на анализ. Результаты исследования почв опубликованы в [16]. Почвы развиты на элювиально-делювиальных красноцветных супесчаных почвообразующих породах, залегающих на небольшой глубине (68–120 см). В структуре почвенного покрова на ТЭ1 и ТЭ2 доминируют черноземы южные маломощные, среднегумусированные, среднесуглинистые, слабодеградированные в комплексе с черноземами южными карбонатными легкосуглинистыми, среднеде- градированными до 25–30 %. Для ЭА позиции характерны сочетания черноземов южных среднемощных, среднегумусированных, среднесуглинистых, с черноземами южными солончако-ватыми. Недостаточность атмосферного увлажнения и резкая континентальность климата проявляются в ослабленном гумусонакоплении, уменьшенной мощности гумусового профиля (28–40 см) и повышенном горизонте карбонатных выделений (29,7–38,5 см). При этом трансформация органических остатков и их гумификация сопровождаются существенным обогащением гумусовых веществ азотом, и этот процесс идет в направлении его накопления сверху вниз по склону: (С:N) средняя – на ТЭ1 и высокая – на ТЭ2 и ЭА позициях. В нижней позиции обеспеченность подвижным фосфором – повышенная, калием – высокая, а на трансэлювиальных соответственно низкая и повышенная. Глубже 20 см содержание их падает до очень низких показателей.
Результаты и их обсуждение. В приени-сейской полосе Хакасии подтип южных черноземов формируется под настоящими крупно- дерновинными ковыльными, овсецовыми, а также мятликовыми степями [17]. Растительный покров исследуемой 18-летней залежи представлен корневищной и короткокорневищнорыхлокустовой стадиями демутации. Корневищная стадия сформирована ковыльно-кострецовым фитоценозом (Ф1) и разнотравно-кострецовым (Ф2), корневищно-рыхлокустовая – типчаково-ковыльно-мятликовым (Ф3). Видовая насыщенность фитоценозов слабая (23 вида), и вниз по склону количество видов убывает. Роль вида в сообществе характеризуется коэффициентом фитоценотической значимости (КФЗ), представляющим произведение среднего проективного покрытия на встречаемость [18]. Чем выше его значение, тем более значим соответствующий вид. Основными эдификаторами, то есть средообразующими растениями на залежи, являются многолетние злаки (табл.1). Наиболее значимым фитоценотическим видом в сообществе на ТЭ1 и ТЭ2 позициях является кострец безостый (КФЗ – 540 и 528), а на ЭА – мятлик узколистный (КФЗ – 1429).
Оценка роли вида в фитоценозах 18-летней залежи на разных позициях пологого склона юго-восточной экспозиции
Таблица 1
|
Вид растений и ботанические группы в фитоценозах |
Среднее проективное покрытие, % |
Встречаемость, % |
КФЗ |
|
Ковыльно-кострецовый фитоценоз (ТЭ1) |
|||
|
Злаки: кострец безостый |
41,5 |
13 |
539,5 |
|
пырей ползучий |
12,0 |
7 |
84,0 |
|
ковыль волосатик |
18,0 |
7 |
126,0 |
|
типчак валисский |
0,5 |
2 |
1,0 |
|
Разнотравье |
10,3 |
6 |
61,8 |
|
В т. ч. сорное |
7,8 |
5 |
39,0 |
|
Разнотравно-кострецовый (ТЭ2) |
|||
|
Злаки: кострец безостый |
24,0 |
22 |
528,0 |
|
пырей ползучий |
10,0 |
7 |
70,0 |
|
ковыль волосатик |
7,5 |
9 |
67,5 |
|
типчак валисский |
1,5 |
2 |
3,0 |
|
Разнотравье |
22,0 |
7 |
154,0 |
|
В т. ч. сорное |
16,0 |
4 |
64,0 |
|
Типчаково-ковыльно-мятликовый (ЭА) |
|||
|
Злаки: мятлик узколистный |
39,7 |
36 |
1429,2 |
|
ковыль волосатик |
24,0 |
12 |
288,0 |
|
типчак валисский |
24,0 |
12 |
288,0 |
|
Разнотравье |
6,3 |
2 |
12,6 |
|
В т. ч. сорное |
1,5 |
1 |
1,5 |
Кроме костреца в фитоценозах первых двух позиций заметно участие пырея ползучего. Отличия в фитоценозах этих стадий обусловлены появлением тырсы на ТЭ1 (КФЗ – 126), инвазией мятлика узколистного и значительным обилием сорного разнотравья на ТЭ2. Из разнотравья на верхних позициях преобладают корнеотпрысковые, стержнекорневые сорные растения: Linaria vulgaris Mill – льнянка обыкновенная, Cynoglos-sum officinale L. – чернокорень лекарственный, Lappula squarrosa (Retz.) Dumort – липучка оттопыренная, Fallópia convolvulus (L.) A. Love – горец вьюнковый и др., а также степные многолетние травы и полыни. На ЭА позиции заметное развитие получили эдификаторы степных сообществ – ковыль волосатик и типчак валис-ский. Участие в данном фитоценозе сорного разнотравья минимальное. Таким образом, в более благоприятных гидротермических условиях ландшафта и плодородия почвы (потенциальное – среднее, запас гумуса в слое 0–20 см составил 113,9±8,2 т/га, V=14,5 % (критерий оценки – гумус), эффективное – высокое [16]), восстановительные процессы ускоряются с выраженной тенденцией к вторичному зацелине-нию. Пространственный ряд фитоценозов характеризуется направленной необратимой сменой эдификаторов: от костреца на верхней позиции к кострецу с мятликом узколистным в средней и мятлику узколистному с ковылем волосатиком и типчаком валисским в нижней. Исследуемый ряд в основных чертах соответствует залежным сукцессиям степных зональных сообществ.
Фитомасса по профилю склона изменяется в зависимости не только от количества видов, но и от жизненного состояния эдификаторов и до-минантов. Считается, что наиболее ценной в хозяйственном отношении является стадия доминирования корневищных злаков, дающих наибольшую кормовую массу. Однако на 18-летней залежи запас сена был максимальным в Ф.3 на нижней позиции склона и минимальный в Ф.2 – на средней (табл. 2).
Таблица 2
|
Биомасса вещества |
Ф.1(верхняя ТЭ1) |
Ф.2 (средняя ТЭ2) |
Ф.3 (нижняя ЭА) |
|
Надземная n=10 |
3,4±9,0 V*=33,4 |
2,3±4,5 V=25,1 |
3,1±5,3 V=21,4 |
|
Из них: сено |
1,9±8,9 V=58,1 |
1,3±4,3 V=42,5 |
2,3±5,0 V=27,9 |
|
ветошь |
1,5±2,8 V=24,5 |
1,0±2,1 V=26,2 |
0,8±3,3 V=48,4 |
|
Подземная в гумусовом слое |
6,7 (66 %) |
10,4 (82 %) |
6,6 (68 %) |
|
Из них: живые корни |
4,6 |
7,2 |
3,2 |
|
мортмасса |
2,1 |
3,2 |
3,4 |
|
Отношение надземная масса : подземная |
0,51 |
0,22 |
0,47 |
|
Всего возможных источников гумуса |
10,1 ( 100 %) |
12,7 (100 %) |
9,7 (100 %) |
*V – коэффициент вариации, %.
Биопродуктивность 18-летней залежи по разным позициям пологого склона юго-восточной экспозиции, т/га сухого вещества
Согласно десятибалльной шкале Н.И. Базилевич и Л.Е. Родина [19], такие ценозы характеризуются как малопродуктивные. Неоднородность почв по плодородию и эродированности обусловила пространственную пестроту продуктивности фитомассы трав и высокую вариабельность, особенно на транзитных позициях склона (V=58 и 42 %). В составе травостоя залежи наибольшая масса у злаков и ветоши. По-видимому, на эродированной почве транзитных позиций, где потенциальное плодородие низкое (запас гумуса в слое 0–20 см составил 75,1±13,0 т/га, V=38,7 %
– в верхней и 97,2±14,2 т/га, V=29,2 % – средней частях склона) (критерий оценки – гумус), эффективное – низкое и среднее [16], растительность длительное время находилась в инициальной стадии, о чем свидетельствуют неразло-жившиеся остатки на поверхности почвы крупных стеблей однолетних растений.
Биологическая продуктивность фитоценозов складывается из ОВ надземной и подземной частей, что определяет в итоге плодородие почвы. Основным источником гумуса у черноземов южных являются корневые остатки, на их долю приходится от 66 до 82 % общего запаса биомассы. При анализе вертикального распределения корней в глубину установлено, что растения основную часть корневой системы закладывают в гумусовом горизонте от 7 до 10 т/га (Ад – 4,6– 7,5 т/га; А – 1,4–1,8; АВ – 0,5–1,0 т/га). В иллюви-ально-карбонатном горизонте (слой 32–67 см – на ТЭ1, ТЭ2 и 40–68 см – на ЭА) их запас значительно уменьшается (0,7 т/га – Ф.1; 0,8 – Ф.2 и 0,6 т/га – Ф.3). Запас подземной массы в сообществах определяется соотношением процессов нарастания, отмирания и разложения корней в почве. Известно, что запас живых подземных органов от суммарного запаса живых и мертвых в луговых, настоящих и сухих степях Средней Сибири составляет 40–45 % [20, с. 167]. В нашем случае это соотношение составило 69 % в корневищной стадии и 48 % – в корневищнорыхлокустовой, то есть последняя приближается к климаксному состоянию степной растительности (см. табл. 2).
Общий запас мортмассы, слагаемый ветошью и корневыми остатками, ниже запаса общей живой фитомассы в 1,8–2,0 раза – в корневищной стадии и в 1,3 раза – в корневищнорыхлокустовой. На средней позиции склона (при неблагоприятных условиях почвенной среды) зеленая фитомасса самая низкая, при этом растения развивают максимальное количество живых корней, усиливающих поверхность поглощения влаги и питания (см. табл. 2). По литературным данным известно, что при снижении абсолютных значений зеленой части растений прослеживается еще большая доля в структуре фитомассы подземных органов [20, с. 172 ]. Суммируя надземную и подземную массы ОВ, общая биопродуктивность, производимая травянистыми сообществами, выразится величинами 10–13 т/га (см. табл. 2). Таким образом, больше всего источников гумуса аккумулируется в эродированной почве на ТЭ2 позиции, что приводит к восстановлению плодородия почвы, но более длительному, чем на ТЭ1 и ЭА позициях пологого склона, что должно учитываться при вовлечении залежи в севооборот.
Выводы. В условиях холмисто-сопочной степи Хакасии изменения в сукцессионных сообществах, находящихся на одном временном промежутке вторичного зацелинения, определяются гидротермическим режимом ландшафтных позиций склона и плодородием эродированных почв. На всех элементарных позициях пологого склона 18-летней залежи фитоценозы прошли инициальную стадию демутации (бурьяна) и находятся на переходных стадиях. На трансэлювиальных позициях, где потенциальное плодородие почвы низкое, эффективное – низкое и среднее, сукцессионные процессы заторможены и находятся в корневищной стадии демутации. В благоприятных гидротермических условиях ЭА позиции усиленная минерализация растительных остатков повышает плодородие почвы и, как следствие, возрастает продуктивность и скорость восстановительного процесса. Пространственный ряд фитоценозов характеризуется направленной необратимой сменой эди-фикаторов от более влаголюбивых к засухоустойчивым: от костреца на верхней позиции к кострецу с мятликом узколистным в средней и мятлику узколистному с ковылем волосатиком и типчаком валисским в нижней. Залежные ценозы малопродуктивные (1,9–1,3 т/га – в стадии корневищных злаков и 2,3 т/га – корневищнорыхлокустовых). Общая биопродуктивность варьирует от 10 до 13 т/га, из них 2,3–3,4 т/га составила надземная масса и 6,6–10,4 т/га – подземная. Больше всего источников гумуса аккумулируется в наиболее эродированной почве, средней части склона, где при значительном дефиците влаги и питания растения развивают максимальное количество живых корней. Таким образом, в сельскохозяйственный оборот можно вовлекать только нижнюю, восстановившуюся часть склона, а транзитные части оставить под естественные кормовые угодья.
Список литературы Демутация и биопродуктивность залежи в условиях холмисто-сопочной степи Хакасии
- Черепнин Л.М. Естествaенные кормовые ресурсы Хакасии и перспективы их исполь-зования // Труды Южно-Енисейской экспе-диции СОПС АН СССР. М.: АН СССР, 1954. Вып. 2. С. 116–128.
- Зайченко О.А., Хакимзянова Ф.И. Особен-ности и темпы восстановления залежной растительности в степях Южно-Минусин-ской котловины // Аридные экосистемы. 1999. Т. 5. № 10. С. 65–70.
- Кандалова Г.Т. Восстановление и использо-вание растительности залежей юга Сред-ней Сибири в современных условиях // Дос-тижения науки и техники АПК. 2011. № 6. С. 51–53.
- Ревердатто В.В., Голубинцева В.П. Сор-ная растительность орошаемых и неоро-шаемых полей и залежей южносибирских степей. М.; Л.: Сельхозгиз, 1930. 78 с.
- Тишков А.А. Сукцессии степной раститель-ности // Степи Северной Евразии: мат-лы VI симп. Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 2012. С. 716–719.
- Кандалова Г.Т., Кутькина Н.В. Восстанов-ление растительного покрова и плодородия опустыненных земель Сибири, подвергну-тых стихийной консервации // Опустынива-ние земель и борьба с ним: мат-лы между-нар. науч. конф. Абакан: ООО «Фирма «Март», 2007. С. 127–134.
- Дзыбов Д.С., Лапенко Н.Г. Зональные и вторичные бородачевые степи Ставро-полья. Ставрополь: ГУПСК «Ставр. краевая типография», 2003. 224 с.
- Post W.M., Kwon K.C. Soil carbon sequestra-tion and land‐use change: processes and po-tential. URL: https://cdiac.ess-dive.lbl.gov/ pro-grams/CSEQ/terrestrial/postkwon2000/postkwon2000.html (дата обращения: 15.06.2019).
- Орловский Н.В. Изучение естественных залежей на Уральской зональной зерновой опытной станции // Исследование почв Си-бири и Казахстана. Новосибирск: Наука, 1979. С. 19–70.
- Кутькина Н.В., Еремина И.Г. Восстановле-ние плодородия каштановых почв в усло-виях залежи // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 4. С. 9–11.
- Градобоев Н.Д. Природные условия и поч-венный покров левобережной части Мину-синской впадины // Почвы Минусинской впа-дины. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 183 с.
- Кутькина Н.В., Еремина И.Г. Биоклимати-ческий потенциал залежных земель Хака-сии // Аграрная наука. 2018. № 11-12. С. 66–69.
- Мордкович В.Г., Шатохина Н.Г., Титляно-ва А.А. Степные катены. Новосибирск: Нау-ка, 1985. 115 с.
- Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследования при-родных ландшафтов. Смоленск: Ойкумена, 2002. 288 с.
- Красильников П.К. Методика полевого изу-чения подземных частей растений. Л.: Нау-ка, Ленинград. отд-ние, 1983. 207 с.
- Кутькина Н.В. Восстановление залежных земель в условиях степной катены Хака-сии // Научная жизнь. 2019. Т. 14. Вып. 10. С. 1584–1596.
- Растительный покров Хакасии / отв ред. А.В. Куминова. Новосибирск: Наука, 1976. 423 c.
- Уфимцева М.Д. Индикаторная роль расти-тельности при экологических исследовани-ях. URL: http://www.eco.nw.ru/ lib/data/10/07/ 020710.htm (дата обращения: 18.11.2019).
- Базилевич Н.И., Родин Л.Е. Типы биологи-ческого круговорота зольных элементов и азота в основных зонах Северного полу-шария // Генезис, классификация и карто-графия почв СССР: докл. к VIII междунар. конгр. Почвоведов. М.: Наука, 1964. С. 134–146.
- Базилевич Н.И. Биологическая продуктив-ность экосистем Северной Евразии. М.: Наука, 1993. 293 с.