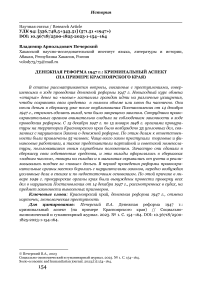Денежная реформа 1947 г.: криминальный аспект (на примере Красноярского края)
Автор: Печерский Владимир Арнольдович
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (27), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с преступлениями, совершенными в ходе проведения денежной реформы 1947 г. Невыгодный курс обмена«старых» денег на «новые» заставлял граждан идти на различные ухищрения, чтобы сохранить свои средства в полном объеме или хотя бы частично. Они несли деньги в сберкассу уже после опубликования Постановления от 14 декабря 1947 г., стремясь сделать вклад, что было запрещено законом. Сотрудники правоохранительных органов внимательно следили за соблюдением законности в ходе проведения реформы. С 15 декабря 1947 г. по 15 января 1948 г. органами прокуратуры на территории Красноярского края было возбуждено 35 уголовных дел, связанных с нарушением Закона о денежной реформе. По этим делам к ответственности были привлечены 55 человек. Чаще всего закон преступали торговые и финансовые работники, а также представители партийной и советской номенклатуры, пользовавшиеся своим служебным положением. Зачастую они сдавали в сберкассу свои собственные средства, и эти вклады оформлялись в сберкассах«задним числом», товары на складах и в магазинах скрывались от учета и реализовывались позднее за «новые» деньги. В период проведения реформы правоохранительные органы жестко боролись с нарушителями законов, нередко возбуждая уголовные дела в спешке и по недостаточным основаниям. По этой причине в январе 1949 г. прокурорские органы края были вынуждены провести проверку всех дел о нарушении Постановления от 14 декабря 1947 г., рассмотренных в судах, на предмет законности вынесенных приговоров.
Красноярский край, денежная реформа 1947 г, отмена карточек, экономическая преступность
Короткий адрес: https://sciup.org/140297511
IDR: 140297511 | УДК: 94: | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-1-154-164
Текст научной статьи Денежная реформа 1947 г.: криминальный аспект (на примере Красноярского края)
Введение . После Великой Отечественной войны советские финансы находились в крайне тяжелом состоянии, поэтому проведение денежной реформы было жизненно важной мерой, призванной укрепить народное хозяйство и повысить благосостояние советских граждан.
Цель исследования . Проанализировать особенности денежной реформы 1947 г. и связанные с ней криминальные аспекты на основе впервые вводимых в научный оборот архивных документов
Результаты исследования и их обсуждение. В научной литературе тема денежной реформы 1947 г. исследована достаточно подробно [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Авторы раскрывают экономические аспекты данного переустройства, однако его криминальная составляющая изучена недостаточно. 14 декабря 1947 г. было опубликовано Постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». Согласно данному нормативному правовому акту, отменялась карточная система, а денежные вклады в сберегательных кассах обменивались по сложной схеме: до 3 000 руб. – 1:1, от 3 000 до 10 000 руб. – 3:2, свыше 10 000 руб. – 3:1. Денежные средства, находившиеся на руках у населения, обменивались в соотношении 1 руб. «новых» на 10 руб. «старых».
Подобный курс обмена вызвал недовольство значительной части населения и для того, чтобы предотвратить злоупотребления, прокурорские органы установили особый контроль над ходом проведения реформы. Усилия прокурорских работников не заставили себя долго ждать, на имя руководителей советского государства И.В. Сталина, В.М. Молотова, А.А. Жданова и других поступали секретные докладные записки о правонарушениях, связанных с проведением денежной реформы, происходивших по всей стране [9, с. 45.].
Возможность нагреть руки появилась у некоторых граждан, благодаря безответственности части руководящих работников. Документы о реформе разослали на места в специальных пакетах с надписью: «Вскрыть только по получении особого указания», однако, как признал тогда министр финансов А.Г. Зверев, «у отдельных местных сотрудников любопытство перетянуло служебный долг». Пакеты были вскрыты раньше времени, и о предстоящем обмене узнали партийные и советские работники [10, с. 181].
Красноярский край не был исключением из общей картины, сложившейся в стране. В то время, когда в краевой газете появлялись материалы, прославлявшие реформу под громкими заголовками «Великое спасибо Сталину» от работников Красноярской макаронной фабрики [11], «Ремонтники приветствуют мудрое решение» от механизаторов Каштановской МТС Боготольского района [11], некоторые пытались если не нажиться, то минимизировать свои финансовые потери.
Для того чтобы выявить подобные деяния, 17 декабря 1947 г. всем городским и районным прокуратурам края и прокурору Хакасской автономной обла- сти были даны телеграфные указания – усилить надзор за точным исполнением всеми учреждениями, предприятиями и организациями закона от 14 декабря 1947 г. [12, л. 3].
Всего с 15 декабря 1947 г. по 15 января 1948 г. органами прокуратуры на территории края было возбуждено 35 уголовных дел, связанных с нарушением Закона о денежной реформе. По этим делам к ответственности были привлечены 55 чел., в том числе 12 работников районных сберегательных касс, 4 работника отделения Государственного банка [12, л. 3 об.].
Часто фигурантами таких уголовных дел становились финансовые работники. Не менее интенсивно использовали свое служебное положение торговые работники, которые зачастую под видом выручки сдавали в банки деньги, принадлежавшие им и другим лицам. Проверки, организованные прокурорскими органами края в финансовых органах, учреждениях Сбербанка и в сберегательных кассах помогли выявить значительное количество фактов злоупотребления со сдачей выручки в банки [12, л. 3].
Так, в ходе проверки, проведенной прокурором Емельяновского района, было установлено, что продавец чайной Круглова 18 декабря 1947 г. сдала в счет выручки свои собственные деньги в старых купюрах в сумме 8463 руб., а вместо них забрала из выручки своего заведения такую же сумму, но в новых денежных знаках.
Порой работники торговли использовали вверенный им товар для махинаций по незаконному обмену денег. Подобным образом поступил, например, заведующий складом Емельяновского райпотребсоюза Анашкин, который в момент снятия остатков товаров по складу и их переоценки скрыл от учета 13 м шерстяной ткани, 21 м мануфактуры и другой товар. В магазине Красторга Емельяновского района часть работников 15 декабря 1947 г. организовали сбор старых купюр у населения на условиях оплаты товаров новыми деньгами в по- ловинном размере. Таким нехитрым способом они собрали 20 тыс. руб., кроме того, утаили от учета и переоценки товаров на 11 576 руб. Прокуратура Емелья-новского района арестовала всех перечисленных лиц и передала их дела в суд.
Не лучшим образом обстояло дело и в других районах. Например, прокуратура Березовского района уличила продавца магазина № 2 Березовского сельпо Маничеву в том, что она 15 декабря 1947 г. вместе с выручкой сдала личные средства в сумме 6 тыс. руб., в счет которых ее были взяты из магазина товары на 4 тыс. руб., а товары (табачные изделия) на 2 тыс. руб. она скрыла от переучета и оценки. Эти махинации стоили продавщице 5 лет лишения свободы [12, л. 4].
Работники советской торговли привыкли использовать в своей деятельности различные схемы сокрытия товара и теневого оборота выручки. Эти махинации они применяли и в период проведения реформы. Однако за соблюдением положений Постановления от 14 декабря 1947 г. прокурорские органы следили особенно внимательно, и такие попытки часто заканчивались неудачно.
10 февраля 1948 г. прокуратура края подвела итоги первого месяца реализации денежной реформы, о чем было доложено прокурору РСФСР А.А. Волину. Прокурорские органы выявили многочисленные нарушения Закона о реформе и сопутствующие преступления, такие как: 1) оформление денежных вкладов в сберегательные кассы задним числом и злоупотребления со сдачей выручки в банк; 2) сдача отдельными работниками под видом выручки и путем других злоупотреблений банкам денег, принадлежащих им и другим лицам; 3) сокрытие товаров от учета на 16 декабря 1947 г. и реализация их позднее; 4) случаи сокрытия при проводившихся инвентаризациях товаров с внесением их стоимости старого образца; 5) скупка спекулянтами в магазинах и перепродажа на рынках товаров по завышенным ценам; 6) обман потребителей путем обвеса и повышения цен; 7) незаконный отпуск товара сверх норм, отсутствие прейскурантов цен, объявлений о нормах отпуска товаров; 8) сокрытие товаров от покупателей; 9) хищение товаров [12, л. 9].
Отработанные схемы с большей или меньшей долей успеха применялись и в ходе денежной реформы. Привыкнув придерживать товар для «нужных людей», торговые работники не спешили выкладывать его на прилавок, стремясь продать его уже за «новые» деньги.
Помимо прокурорских органов, проверку хода реформы осуществляла и краевая контора Государственного банка. Однако в краевой прокуратуре остались недовольны тем, как банковские сотрудники контролировали подчиненные им отделения. Краевая контора проверила свои отделения лишь в 19 районах. Несмотря на то что был зафиксирован большой приток «старых» денег, краевая контора не потребовала от своих отделений провести проверки правильности сдачи наличных денег предприятиями, организациями и учреждениями. Вместо этого некоторые управляющие отделениями пошли на сговор со злоумышленниками, желавшими сохранить свои капиталы, и стали принимать деньги от колхозов, тогда как 15 декабря 1947 г. прием денег у коллективных хозяйств был запрещен.
Принимали отделения Государственного банка и личные средства населения. Так, 15 декабря 1947 г. счетовод колхоза им. М.И. Калинина Рыбинского района Евдокимова в отделении Госбанка своего района перевела собственные деньги 5 700 руб. «старыми» на счет колхоза, а затем получила эту сумму уже «новыми». Прокуратура обвинила в этом инциденте банк, который не контролировал оборот денежных средств. Правоту прокурорских органов в этом вопросе подтверждал тот факт, что краевая контора Госбанка еще в феврале 1948 г. не имела данных о количестве денег, незаконно принятых от колхозов, и не дала указание своим отделениям о немедленной переоценке данных сумм. Проверки сдававшихся денег, по данным прокуратуры, отделения Государственного банка проводили формально и могли служить лишь основанием для переоценки сданных в обход реформы сумм, привлечь же к ответственности виновных лиц не представлялось возможным [12, л. 9 об. –10].
В результате денежной реформы колхозы оказались в трудном положении. Подобно частным лицам они проводили обмен денег со значительными потерями и также стремились их избежать. Отделения Госбанка не всегда имели возможность проконтролировать всю денежную массу, которую колхозы сдавали им. Не исключался также сговор между некоторыми колхозами и сотрудниками отделений Государственного банка.
Положения реформы нарушали не только колхозы. Из 53 организаций краевого центра, в которых проводилась проверка правильности сданных наличных сумм на счета Госбанка, факты обхода Закона о денежной реформе были зафиксированы в 35 организациях. По результатам проверки в 23 организациях была проведена переоценка денег по предусмотренному Постановлением от 14 декабря 1947 г. эквиваленту, а по 12 организациям деньги были конфискованы. Всего переоценено было средств на сумму 402 452 руб., а конфисковано 277 412 руб. В краевой прокуратуре возмутились тому, что, несмотря на большое количество грубых нарушений Закона о денежной реформе, в прокуратуру Красноярска были переданы материалы всего по 2 актам проверки. Еще 18 уголовных дел были возбуждены по инициативе следственных органов [12, л. 10]. Банковские учреждения с трудом признавали свои ошибки. Их работники сами нарушали закон, поэтому сотрудничество со следственными органами проходило столь сложно.
Серьезные претензии у органов прокуратуры были, например, к отделению Госбанка в Курагинском районе. Ку-рагинская районная прокуратура провела там проверку, в ходе которой «было установлено ряд грубых нарушений Закона о денежной реформе» [12, л. 10 об.].
В части нарушений работники прокуратуры обвинили отделение Госбанка. Так, 15 декабря 1947 г. отделение принимало деньги от одних и тех же предприятий и организаций по 2–3 раза. Пользуясь этим, организации провели сбор личных средств сотрудников и сдавали их в банк под видом казенных сумм. Проверка документов в 32 организациях Курагинского района вскрыла серьезные злоупотребления должностных лиц, пытавшихся «спасти» средства как принадлежавшие им, так и их подчиненным. Так, в районном промышленном комбинате бухгалтер Горшко с ведома директора Пленкина собрал с рабочих 6 793 руб. якобы для погашения аванса на выдачу продукции и сдал эти деньги на счет в отделение Госбанка [12, л. 10 об.].
В ходе денежной реформы перед руководящими работниками вставала непростая дилемма: с одной стороны, они должны были следовать указаниям партии и правительства, быть законопослушными гражданами и сознательными коммунистами, с другой – они желали помочь как себе, так и своим подчиненным. Личные интересы зачастую оказывались важнее государственных, и это приводило на скамью подсудимых многих руководителей.
Простые граждане также шли на различные ухищрения, чтобы сохранить свои деньги. Прокурор Канска возбудил уголовное дело по факту нарушения положений Указа от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» против экспедитора Дзержинского молочно-мясного совхоза Герасимова, который 15 декабря 1947 г. под видом аванса на горючее перечислил на счет нефтебазы 28 тыс. руб. собственных денег [12, л. 11]. Жадность погубила незадачливого экспедитора. Происхождение такой крупной суммы личных средств не могло не заинтересовать прокуратуру. Попытка сохранить свои капиталы привела Герасимова на скамью подсудимых, и над ним нависла угроза, согласно Указу от 4 июня 1947 г., получить приговор до 25 лет лишения свободы.
Под действие данного нормативного правового акта попали должностные лица Назаровского райпотребсоюза – председатель Ахломенок, председатель Назаров-ского сельпо Щуров, заведующий торговым отделом Третьяков и другие (всего 6 чел.). Пользуясь служебным положением, под видом выручки они сдали в магазин «Сельпо» 42 556 руб. личных средств. Когда об этом факте стало известно следственным органам, работники райпотребсоюза сфабриковали фиктивные документы. Последнее им не помогло, прокуратура Назаровского района привлекла их к уголовной ответственности, а народный суд приговорил к заключению в исправительно-трудовом лагере на сроки от 10 до 20 лет [12, л. 11].
Нарушали Закон о реформе и финансовые учреждения. Министерство финансов СССР разослало в сберегательные кассы инструкцию, согласно которой сберкассы должны были прекратить прием вкладов 14 декабря 1947 г. с 19:00 местного времени. Этот запрет подтвердил специальной телеграммой, разосланной в тот же день, министр финансов А.Г. Зверев. Однако сотрудники сберкасс нередко нарушали эти указания. В 77 районах Красноярского края контролеры-ревизоры провели проверку сберегательных касс, в результате которой были выявлены нарушения по 12 районам в 15 сберкассах. В них незаконно было принято вкладов на сумму 2 508 115 руб. Так, в Шушенской сберкассе № 7041 было 3 случая незаконного приема вкладов на 7 тыс. руб. В Партизанской сберегательной кассе № 2396 вопреки требованиям закона были приняты 3 вклада на 14 800 руб. В сберкассе Ширинского района Хакасской автономной области 4 раза приняли вклады на 13 тыс. руб. [12, л. 11 об.]. Некоторые граждане пытались спасти свои средства хотя бы от крайне невыгодного обмена наличных денег, внеся их в сберкассы. Но государство не позволяло даже минимизировать потери.
Сберегательные кассы делали исключение для некоторых людей, за что следовали незамедлительные санкции: кассир Козульской районной сберкассы Тонкова была осуждена народным судом на 2 года пребывания в исправительнотрудовом лагере за незаконное принятие вклада 5 500 руб. [12, л. 12].
В ходе проверки сберкасс обнаружились и другие факты нарушения Закона о денежной реформе. В 10 сберегательных кассах по 35 счетам были неправильно оценены вклады. Так, в сберкассе № 6275/07 Усть-Абаканского района Хакасской автономной области было принято вкладов на 12 874 тыс. руб., деньги были возвращены клиенту. В Саралин-ском районе Хакасии в сберкассе № 6125/07 было принято вкладов на 56 тыс. руб. Здесь была сделана переоценка кладов в соотношении 1:10.
Прокуратура Нижнеингашского района провела проверку местной сберкассы, в сети прокурорских работников попались заведующий районной сберкассой Балько, главный бухгалтер Соколовский, бухгалтер Швецова, контролер Матюшева и кассир Янкевич. 15 декабря 1947 г. они внесли вклады на сберегательные книжки на сумму 23 286 руб., оформив документы 13 декабря. Перечисленные лица были привлечены к уголовной ответственности [12, л. 12].
Некоторые работники сберкасс не смогли удержаться от искушения использовать служебное положение для спасения собственных средств. Другие не смогли пересчитать вклады в соответствии с положениями реформы, им для этого не хватило профессиональных навыков и усидчивости. В период проведения реформы именно финансовые учреждения были своеобразной «зоной риска», что привлекало к ним особое внимание со стороны прокуратуры.
На рубеже 1947–1948 гг. возникли трудности и с выплатой заработной платы, пособий и пенсий. Постановление от 14 декабря 1947 г. предписывало выплачивать зарплаты, пенсии, стипендии и пособия за первую половину декабря, начиная с 16 декабря деньгами нового образца, пенсии и пособия должны были быть начислены не позднее 14 декабря. Однако, как показала проверка, проведенная прокуратурой Красноярска, заведующая городским отделом социального обеспечения дала указания райсобесам о переводе денег ранее указанного срока. В результате выплата за декабрь была произведена деньгами старого образца: в Сталинском районе 94 инвалидам войны было выплачено 28 840 руб., а 171 инвалиду труда – 25 525 руб., 140 членам семей погибших выплатили 78 158 руб., в Кировском районе 300 инвалидов войны и труда получили 27 тыс. руб. Похожее нарушение было на комбинате «Мину-синскзолото», где декабрьская зарплата была выплачена уже 8 декабря 1947 г. Работники комбината получили 52 тыс. руб. старыми деньгами.
В Хатангском районе прокуратура выявила нарушения п. 3 Постановления от 14 декабря 1947 г., согласно которому обмен денег полагалось произвести с 16 по 22 декабря 1947 г. Обменновыплатные пункты в Хатангском отделении Государственного банка преждевременно прекратили работу, поэтому многие колхозники не успели обменять старые деньги на новые [12, л. 12 об.].
Очевидно, что некоторые руководители на местах, не понимая ситуацию, не сумели должным образом выполнить инструкции центральных органов власти. В Хатангском районе сказались особенности его географического положения. Несмотря на то что в отдаленных районах страны обмен денег был продлен еще на одну неделю, справиться в оговоренные сроки удавалось не всегда.
Значительное количество злоупотреблений было отмечено и в связи с отменой карточек на продовольственные и промышленные товары. В торговых точках организовывали закрытую торговлю. Как говорилось выше, при инвентаризации скрывались товары, увеличивались нормы отпуска товаров в одни руки.
Несмотря на распоряжение директивных органов о сокращении часов тор- говли, о запрещении продажи нормируемых товаров по ордерам, руководители торговых организаций часто нарушали эти запреты. 15 декабря 1947 г. за старые денежные знаки было распродано большое количество товаров и продуктов. Особенно такая торговля активизировалась в Красноярске. Так, если выручка магазина № 2 отдела рабочего снабжения Красноярского завода № 703 составляла 10–12 тыс. руб. в день, то 15 декабря 1947 г. там было продано товаров на 106 779 руб. Руководство ОРСа дало распоряжение заведующему данным магазином продать за день все товары, находившиеся на подотчете, и в результате было продано 700 м шелковых и шерстяных тканей по ордерам, выданным 15 декабря. В магазине № 8 станции «Красноярск» 15 декабря 1948 г. было продано товаров на 81 тыс. руб. при среднедневной выручке 9–10 тыс. руб. Притом, что в этот день (понедельник) в магазине был выходной день.
В Рыбинском районе начальник ОРСа дал указание заведующему складом провести 15 декабря 1947 г. продажу промышленных товаров непосредственно со склада. Торговля шла до 2 ч ночи, в результате такого «трудолюбия» выручка составила 197 тыс. руб. вместо 17–20 тыс. руб. в среднем за день. Эти деньги были сданы в банк лишь 17 декабря и переоценены в соотношении 1:10 [12, л. 13].
Прекращение нормирования товаров привело к активизации торговли. Как торговые работники, так и покупатели, опасались, что отмена карточек приведет к нехватке товаров: первые старались увеличить выручку, выполнив государственный план, вторые торопились закупить товары впрок.
В ряде торговых организаций поступали наоборот. Так, в Курагинском районе районный прокурор в январе 1948 г. при проверке выполнения Постановления 14 декабря 1947 г. установил факты «грубого нарушения правил торговли». Выражались они в том, что в ларьке Курагинского сельпо продажа хлеба производилась строго по спискам, заверенным руководителями учреждений, а норма отпуска хлеба в одни руки была установлена в 300 г. Председатель сельпо Щапов разрешил производить отпуск продуктов и товаров только по своим запискам. В магазинах «Сельпо» укрывались товары, а ларьки не обеспечивались клеймеными гирями и весами. Вместо гирь продавцами ларьков употреблялись куски железа, по которым вес товара можно было определить лишь приблизительно.
В магазине организации «Злото-продснаб» в Северо-Енисейском районе продукты продавались исключительно по пропускам и по спискам и только работникам золотодобывающей промышленности. Начальник «Золотопрод-снаба» пос. Брянка Удерейского района установил норму отпуска хлеба в 400 г на иждивенца и 1 кг на работающего. А начальник ОРСа Красноярского паровозостроительного завода Шершнев ввел свой порядок отпуска хлеба: хлеб развешивался в магазинах и доставлялся рабочим на дом.
Краевой торговый отдел располагал фактами грубого нарушения законов о свободной торговле, но, по мнению прокуратуры, «недостаточно и несвоевременно» реагировал на эти нарушения. Из 388 торговых организаций, проверенных в январе 1948 г. государственной торговой инспекций, были установлены нарушения правил торговли в 258 организациях, что составляло 70 %. Были выявлены 1484 случая различных нарушений, из них 57 – обмеривания и обвешивания, 31 – обсчета покупателей, 37 – нарушения норм отпуска товаров и продуктов в одни руки, 21 – завышения цен, 56 – сокрытия товаров от покупателей и т.д. [12, л. 14].
Руководители части торговых организаций, опасаясь дефицита в связи с отменой карточек, напротив, резко сократили отпуск товара, заменив карточки списками. В некоторых районах людям пришлось вспомнить недавно закончившуюся войну, когда потребители были разделены на «иждивенцев» и рабо- тающих, и отпускалось им строго ограниченное количество хлеба. Подобные меры являлись незаконными, так же как и расширенная торговля, и прокурорским работникам приходилось привлекать к ответственности тех, кто продавал товары свыше нормы, и тех, кто самовольно сокращал торговлю.
В первые месяцы проведения реформы правоохранительные органы чрезвычайно строго следили за нарушениями ее положений. Уголовные дела зачастую возбуждались поспешно, а порой по недостаточным основаниям. Прокуратура края спохватилась спустя 1 год. В январе 1949 г. краевой прокурор Н.И. Чекалов отдал распоряжение прокурорам городов, районов, округов и Хакасской автономной области заняться работой над ошибками. Региональные прокуроры Красноярского края узнали, что органы прокуратуры и суда допускали ошибки следующего характера:
-
1. Необоснованно привлекались к уголовной ответственности и осуждались по Указу от 4 июня 1947 г. за хищения государственного и общественного имущества граждане, внесшие 14 декабря 1947 г. денежные вклады в сберкассы, отделения Госбанка и другие финансовые органы, и должностные лица, сделавшие вклады из личных средств. Хотя со стороны Министерства финансов никаких указаний о прекращении приема денежных средств в этот день не поступало. Поэтому состава преступления в действиях этих людей не было.
-
2. Напрасно были привлечены к уголовной ответственности и осуждены работники советских и партийных органов, оказывавшие давление на финансовых работников, заставляя их принимать личные деньги таких руководителей в сберкассы. Поскольку, как было сказано выше, внесение средств 14 декабря 1947 г. не было преступлением, то такие партийные и советские работники должны были быть привлечены только к партийной ответственности [13, л. 9].
-
3. Краевой прокурор отметил, что к уголовной ответственности необоснованно привлекались граждане «не состоявшие в сговоре с должностными лицами финансовых органов» за внесение вкладов 15 декабря 1947 г. Н.И. Чекалов подчеркнул: «Поскольку такие вклады хоть и незаконно, но все же принимались, в действиях граждан, вносивших в этот день на общих основаниях вклады, отсутствует состав преступления» [13, л. 9–10]. Здесь ответственность полностью перекладывалась на сотрудников финансовых учреждений.
-
4. Ошибкой была квалификация по Указу от 4 июня 1947 г. действий должностных лиц, вскрывших пакеты с инструкциями Министерства финансов, в которых содержались инструкции о порядке проведения реформы, ранее установленного срока, то есть до 15:00 14 декабря 1947 г., и внесших личные средства в сберкассы. В действиях этих лиц наличествовало лишь злоупотребление должностными полномочиями, и к ответственности они должны были быть привлечены по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Номенклатурные работники старались сохранить свои деньги, используя административный ресурс. Подобное происходило не только в Красноярском крае. 15 декабря 1947 г. ряд руководящих работников Ленинградского горисполкома обменяли личные средства, находившиеся у них на руках в соотношении 1:1 вместо 1:10. В результате чего переплата составила 17 630 руб. [14, с. 53].
Даже Л.П. Берия поручил одному из своих приближенных 13 декабря 1947 г. сдать в сберкассу «примерно 40 тыс. руб.» своих денег. Несмотря на то что сдача денег в сберкассу до 15 декабря 1947 г. не считалась преступным деянием, Лаврентий Павлович в ходе допроса, состоявшегося 14 июля 1953 г., был вынужден признать свою вину и в этом [15, с. 96.]. Главным ресурсом руководителей такого уровня, как Берия, являлась информация, которой не обладали номенклатурные работники на местах. Это позволяла им минимизировать свои материальные потери, не нарушая закона.
Неправильно привлекали к уголовной ответственности по тому же Указу и по ст. 107 УК РСФСР за спекуляцию граждан, скупавших в больших объемах в период проведения реформы промышленные товары и продукты в целях сохранения личных средств. Если скупка происходила в те дни, когда не действовало ограничение продаж, те, кто занимался скупками, материального ущерба государству не нанесли, и их действия не могли рассматриваться как уголовно наказуемые. Те же, кто скупал товары по сговору с работниками торговли, после запрещения продаж могли быть привлечены к ответственности лишь по ст. 109 УК РСФСР «Злоупотребление властью или служебным положением» [13, л. 10].
В период проведения реформы органы правопорядка не только привлекли к ответственности многих невиновных, но и неправильно квалифицировали действия тех, кого следовало привлечь к ответственности. Здесь просматривалось желание не только наказать нарушителей закона, но и чтобы наказание было как можно более строгим.
Указав на все вышеприведенное, прокурор края приказал своим подчиненным истребовать из народных судов все дела о нарушениях Постановления от 14 декабря 1947 г. и проверить законность приговоров в соответствии с указанными выше ошибками. При обнаружении дел с незаконными приговорами таковые полагалось немедленно выслать вместе с проектами протестов в уголовно-судебный отдел краевой прокуратуры. По тем делам, в которых нарушение закона обнаружено не было, полагалось выслать в уголовно-судебный отдел мотивированное заключение.
Н.И. Чекалов распорядился не позднее 10 февраля 1949 г. представить ему обобщенную докладную записку о проверке таких дел и предупредил прокуроров о персональной ответственности за своевременное и добросовестное выполнение этого поручения [13, л. 10–11]. Осознавая то, что вследствие поспешности и небрежного расследования дел о нарушении положений реформы, среди осужденных оказалось немало невинов- ных, прокурор края торопил своих подчиненных с пересмотром таких дел.
Заключение . Денежная реформа 1947 г. была задумана и проведена с целью сокращения денежной массы в наличном обороте и ликвидации крупных спекулятивных денежных накоплений, сколоченных в годы войны подпольными дельцами. Однако обмен денег по крайне невыгодному курсу больно ударил по всем категориям населения. Несмотря на мнение некоторых историков, например Е.Ю. Спицына, считающих, что реформа носила в целом справедливый характер и отвечала интересам подавляющей части населения страны [15, с. 72], простые люди понесли значительные потери, поскольку многие из них не привыкли держать деньги в финансовых учреждениях, предпочитая иметь средства всегда под рукой. Именно им пришлось обменивать «старые» деньги на «новые» по самому невыгодному курсу. Для граждан, не располагавших информацией о реформе заранее, не имевших доступа к хранилищам финансовых учреждений, обмен денег оказался серьезным ударом по материальному благосостоянию. Поэтому субъектами криминальной активности в период проведения реформы являлись, прежде всего, те, кто имел доступ к вышеперечисленному: финансовые и торговые работники и представители партийной и советской номенклатуры, которые через криминальные деяния стремились поправить свое и без того хорошее материальное положение. В Красноярском крае происходили те же процессы, что и по всей стране, но, учитывая его географические особенности, а именно огромные расстояния и слабые пути сообщения, реформа здесь проходила достаточно трудно и наложила отпечаток на связанную с ней преступность.
Список литературы Денежная реформа 1947 г.: криминальный аспект (на примере Красноярского края)
- Долгобородова Ю.Ю. Денежная реформа 1947 г. и ее правовое обеспечение // Актуальные проблемы российского права. 2009. № 4. С. 60-65. 11.
- Ломшин ВА. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы // Регионология. 2010. № 2. с. 314-319.
- Пашина Н.В., Федорченко В.И. Проблемы подготовки экономической реформы 1947 г. (на материалах Красноярского края) // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2018. № 4. С. 181-192.
- Пашина Н.В., Федорченко В.И. Экономическая реформа 1947 г.: трудности перехода к свободной торговле (на материалах Красноярского края) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 2016. № 6 (68). С. 151.
- Петренко ВА. О необходимости и результатах денежной реформы 1947 г. в Советском Союзе / / Вестник КамчатГУ. 2018. № 43. С. 96-101.
- Репинецкий А.И. Реализация денежной реформы 1947 г. и реакция населения (на материалах Куйбышевской (Самарской) области) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 2. № 6. С. 120-124.
- Хисамутдинова Р.Р., Алантьева Е.В. Отмена карточной системы и переход к свободной торговле на Южном Урале после Великой Отечественной войны // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2014. № 3. С. 131-134.
- Чеберяк Н.В. Проблемы снабжения населения Красноярского края продуктами питания в период продовольственного кризиса 1946-1947 гг. // Омский научный вестник. 2011. № 3. С. 41-44.
- Твердюкова ЕД. Борьба со злоупотреблениями в ходе проведения денежной реформы 1947 г. // Новейшая история России. 2011. № 1(1). С. 45-53.
- Зверев А.Г. Сталин и деньги. М.: Вече, 2018. 288 с.
- Спасибо великому Сталину // Красноярский рабочий. 1947. 15 дек.
- ГАКК. Ф. Р-1434. Оп. 12. Д. 58. 6.
- ГАКК. Ф. Р-1434. Оп. 12. Д. 68.
- Сушков А.В. «Ленинградское дело»: генеральная чистка в колыбели революции». М.: Концептуал, 202. 192 с.
- Спицын Е.Ю. Осень патриарха. Советская держава в 1945-1953 годах. М.: Концептуал, 2018. 528 с. 7.