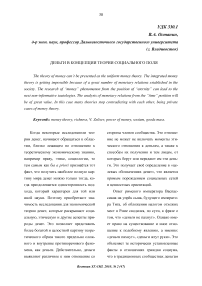Деньги в концепции теории социального поля
Автор: Останин В.А.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Теория денежных отношений
Статья в выпуске: 2, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14319201
IDR: 14319201
Текст статьи Деньги в концепции теории социального поля
Когда некоторые исследователи теории денег, начинают обращаться к областям, близко лежащим по отношению к теоретическому экономическому знанию, например праву, этике, социологии, то тем самым как бы a priori признаётся тот факт, что получить наиболее полную картину мира денег можно только тогда, когда преодолевается односторонность подхода, который характерен для той или иной науки. Поэтому приобретают значимость исследования для экономической теории денег, которые раскрывают социальную, этическую и другие аспекты природы денег. Это позволяет представить более богатой и целостной картину теоретического образа такого предельно сложного и внутренне противоречивого феномена, как деньги. Действительно, деньги выявляют различное к ним отношение со стороны членов сообщества. Это отношение не может не включать моменты этического отношения к деньгам, а также к способам их получения и тем лицам, от которых берут или передают им эти деньги. Это получает своё определение в «целевых обозначениях денег», что является прямым порождением социальных сетей и ценностных ориентаций.
Ответ римского императора Васпас-сиана на упрёк сына, будущего императора Тита, об обложении налогом отхожих мест в Риме сводился, по сути, к фразе о том, что «деньги не пахнут». Однако имеет право на существование и иное отношение к подобному явлению, а именно: «деньги пахнут», «деньги жгут руки». Это объясняет те исторически установленные факты в отношениях граждан социума, что в традиционных сообществах деньгам приписывались особые качества и особые ценности, которые не сводились к их количеству. «На одни деньги, – пишет Вивиана Зелизер – можно было купить еду, на другие – жену, третьи можно было подарить на свадьбу, четвёртыми – откупиться за нанесённое оскорбление. «Неправильные деньги» либо просто не принимались, либо серьёзно девальвировались по стоимости» [1, с. 15].
Соглашаясь с исторически установленными фактами обращения денег и возникновением специфических отношений между участниками этих денежных процессов, мы позволим заметить себе следующее. Это появление специфических отношений к деньгам, скорее, есть отражение более ранних процессов, которые объясняют механизм получения этого богатства в форме денег.
Такое отношение к деньгам есть частный случай более фундаментального социально-экономического отношения к богатству вообще. Деньги есть разновидность имущества, будь оно в форме монетарного золота или серебра или в форме знака этого реального богатства. Получающие известность в социуме знания о формах получения, доступа к богатству не могут оставаться знаниями, которые не получают свои этические оценки. Члены сообщества не могут оставаться индифферентными по отношению как к самому этому получаемому богатству, так и к самим членам социума. Вопрос о том, что в этих отношениях первичное, а что вто- ричное, есть проблема социальных отношений. Отношение к деньгам – это отношение, производное от отношения к человеку. Этическое отношение к деньгам опосредует отношение к способам получения этого богатства самим членом сообщества. Такое опосредование мы можем обнаружить также и в сфере религиозных отношений. Различающееся отношение к деньгам мы обнаруживаем у разных европейских народов и приверженцев к различным религиозным конфессиям. Рамиро де Маэстру после своей поездки в США сделал достоянием широкой научной общественности мысль о том, что мы можем обнаружить резко противоположное отношение к деньгам у народов в зависимости от того, к какой религиозной конфессии этот народ по преимуществу относится. И это различие наиболее выпукло проявляется у носителей таких культур, как, например, протестантской, англосаксонской или католической. Это различающееся отношение, которое по своей природе является более глубоким отношением, то есть социальным, Маэстру увидел в различающемся менталитете народов. Была сделана попытка обосновать природу этого отношения к деньгам характером его народа.
От отношения к деньгам как к цели до отношения к деньгам как к средству достижения других важных принципиальных целей, которые являются более существенными для индивидов, от уважительного, почтительного отношения к деньгам, так и презрительного отношения «как к презренному металлу», преломлённого через религиозное сознание, лежит богатый по своему содержанию спектр отношений. В этом контексте представляет интерес то положение, что вполне можно допустить наличие содержательной стороны в этическом отношении к деньгам. Это обнаруживает элементы общности с духовным отношением, или, что то же самое, духовную, социальную суть денег и их скрытый количеством смысл. Смысл этого положения становится более ясным, более чётко воспринимаемым в связи с иными областями знания. Например, почти религиозному почтению противопоставляется чувственное или плотское отношение к деньгам. Более того, само отношение к количеству не может не отражаться в характере отношения людей к деньгам. Поэтому утверждение В. Зелизер мы в этом отношении не разделяем. Отношение к человеку, у которого в кармане несколько тысяч рублей, будет существенно различаться от отношения к олигарху, у которого объём богатства измеряется миллиардами, и которое он без особых усилий может трансформировать в абсолютную ликвидность.
Духовное, социальное отношение к деньгам мы усматриваем в том состоянии, которое переживает индивид и переживают люди, его окружающие. При этом не может не осознаваться результат получения, приобретения этой суммы в силу пригодности, востребованности индивида другими членами социума, либо эта величина приобретённого стала результатом грубого, насильственного поведения в сообществе, либо в результате финансовых махинаций или коррупционных факторов присвоения. Отношение к деньгам воспринимается одновременно и как отношение к власти над остальными членами сообщества. В этом отношении уместно напомнить мысль К. Маркса о том, что свою связь с обществом, свою власть в обществе индивид носит с собой в кармане. Таким образом, эти отношения к деньгам приобретают момент отношений властных. Власть денег есть власть экономическая, но от этого она не перестаёт оставаться властью, а деньги есть в этой связи размер этого властного ресурса.
Положительно социально востребованное отношение членов социума может проявить себя тогда, когда деньги отразили, а сам процесс приобретения дохода в его денежной форме выявил факт востребованности этого члена социума со стороны большинства. Этот член социума не превратил и не превращал остальных членов сообщества в объект управления, не желал реализовать свои эгоистические интересы, рассматривая членов сообщества как исключительно средство. Этот индивид был элементарно нужен сообществу в целом и отдельным его членам.
В результате деньги несут в себе осознание социумом причастности индивида к процессу создания общезначимых для социума ценностей. Индивид устраивает систему «общего жития», по мысли старца Серафима Соровского. Весь процесс первичного получения дохода, его использования на потребление, их перераспределение на нужды государства, на инвестиции пронизан отношениями этическими, религиозными, этатическими, наконец, личностными. В своей обобщённой форме эти отношения следует понимать как социальные отношения в обществе. Деньги, рассматриваемые в социальном концепте, есть конструкт социума. Они порождены социумом, есть форма разрешения противоречий связи в социуме. То, что деньги не имеют лица, может быть получено исключительно в контексте экономических доктрин. Они уже по определению бедные, ибо игнорируют всю гамму сложных, неоднозначно воспринимаемых и понимаемых социальных отношений. Деньги несут в себе не только экономический потенциал, заряд, но и этическую нагрузку. Экономический потенциал мы можем воспринимать в форме богатства, которое реально доступно, на которое индивид или общество могут распространить свою волю, которое можно контролировать. Общественное разделение труда постоянно воспроизводит потенциал, но не реальное богатство. Подлинное богатство реализуется, по мысли Аристотеля, в потреблении. Следовательно, стать реальным богатством ресурс может только тогда, когда он дойдёт до потребителя. До этого момента товар как продукт, произведённый для других и подлежащий обмену на условиях эквивалентности, или стоимости, становится источником неравномерности распределения благ. Сапоги остаются у сапожника, как булочки у булочника. Не-распределённость товарной массы создаёт на одной стороне излишки потребительной стоимости у производителя и потребность в этом товаре или услугах у потребителя. Возникает своего рода социальноэкономическая напряжённость, которую по аналогии можно представить как напряжённость социально-экономического поля. Разрежение этого поля представляется нам как поток товаров от производителя к потребителю. Последний может осуществляться непосредственно, либо опосредованно черед деньги. Таким образом, денежные потоки и сами деньги следует рассматривать как некоторый конструкт социально-экономического поля, посредством которого обеспечивается снятие напряжения этого социальноэкономического поля.
С другой стороны, потребление следует рассматривать как вторую строну производства, например воспроизводство главной производительной силы и главной ценности в обществе в лице члена социума. Это воспроизводство рабочей силы, самого работника, члена социума осуществляется опосредованно через условия жизни индивидов в обществе, воспроизводя не только предметы потребления, средства производства, но и общественные институты и всю целостность от- ношений в обществе. Движение денег обеспечивает эквивалентность при встречных движениях товаров тогда, когда деньги были действительными деньгами. Во времена бумажных, или современных, денег последние являются средством передачи информации о том, что эта эквивалентность будет восстановлена при обмене товарных масс, как только их владельцы избавятся от бумажных денег. Вера в справедливость при обмене товарной массы с применением действительных денег уже во времена золотого металлизма покоилась на вере. Об этом свидетельствуют жаркие дебаты в Конгрессе США, когда конгрессмены выразили своё отношение к тому, что на золотых монетах планировалось восстановить девиз: «In Got We Trust» – «В Бога мы верим».
Указанный девиз был удалён указом Президента США, и некоторые конгрессмены, в общем соглашаясь с ним, констатировали: «Наша монета… является средством мирских, а не сакральных сделок». Другие конгрессмены не менее удачно приводили аргументы, которые отстаивали ритуальную надпись. При этом заявлялось, что «хотя удаление (девиза) и не уменьшило денежной стоимости (денег)… оно снизило их ценность с точки зрения наших чувств». США, по заявлению представителя штата Джорджия, не должны чеканить «безбожные ( infidel ) деньги» [1, с. 51].
Этот исторический факт позволяет сделать вывод о том, что такое социаль- но-экономическое поле, в котором деньги становятся формой снятия социальноэкономической напряжённости между массовыми полюсами избытка и потребности, одновременно пронизано и религиозными (сакральными), доверительными отношениями. Деньги становятся тем инструментом, конструктом этого социального поля, разрешают противоречия воспроизводства условий человеческой жизни, снимают и одновременно воспроизводят эти противоречия.