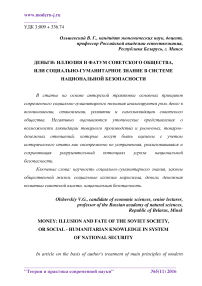Деньги: иллюзия и фатум советского общества, или социально-гуманитарное знание в системе национальной безопасности
Автор: Ольшевский В.Г.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 5 (11), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе авторской трактовки основных принципов современного социально-гуманитарного познания анализируется роль денег в возникновении, становлении, развитии и самоликвидации советского общества. Негативно оцениваются утопические представления о возможности ликвидации товарного производства и рыночных, товарно-денежных отношений, которые могут быть оценены с учетом исторического опыта как своевременно не устраненная, реализовавшаяся и сохраняющая разрушительный потенциал угроза национальной безопасности.
Научность социально-гуманитарного знания, законы общественной жизни, социальные иллюзии марксизма, деньги, денежная политика советской власти, национальная безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/140268998
IDR: 140268998
Текст научной статьи Деньги: иллюзия и фатум советского общества, или социально-гуманитарное знание в системе национальной безопасности
У каждой истины – два лица, у каждого правила – две стороны, у каждого рецепта – два результата.
Жакоб Жубер
Чтобы социально-гуманитарные науки служили и практическим, и высоким целям, воспитанию цивилизованной личности и формированию гуманного общества, они должны быть не простым компендиумом сведений, а обобщением и средоточием интеллектуального и нравственного опыта человечества во всех сферах общественной жизни в их единстве и взаимообусловленности. Поскольку некоторые методологи считают, что «наука должна быть научной», важно сделать одну существенную оговорку.
Некоторые современные специалисты, озабоченные «научностью науки», считают основным направлением развития и совершенствования социально-гуманитарного познания и образования углубление анализа общественных отношений. Суть проблемы усматривают в том, что не только у большинства «простых» людей, но и у многих ученых-гуманитариев отсутствует понимание науки как познания законов, нацеленности «объективно истинных знаний на раскрытие и постижение глубинных аспектов отражаемого ими явления, сущности, законов и противоречий его развития» [13, с. 18]. При этом ссылаются на известного российского философа и методолога науки В. П. Кохановского, который подчеркивал, что само понятие научности предполагает открытие законов, углубление в сущность изучаемых явлений. «Без установления законов действительности, без выражения их в системе понятий нет науки, не может быть научной теории. Перефразируя слова известного поэта, можно сказать: мы говорим наука – подразумеваем закон, мы говорим закон – подразумеваем наука» [17, с. 199].
Разумеется, познание законов общественной жизни как элементов научных теорий – важная задача развития и преподавания социальногуманитарных наук. Но при этом необходимо соблюдать разумную меру, не вдаваться в крайности, абсолютизируя законы науки и отождествляя их с законами (закономерностями) реальной действительности. Особенностью теоретического познания является его направленность на себя, внутринаучная рефлексия, т. е. исследование самого процесса познания, его форм, приемов, методов, понятийного аппарата и т. д. Однако, реальная действительность сложнее сформулированных наукой законов, сущностей, понятий. На основе теоретического объяснения, познанных законов аналитики пытаются предвидеть будущее. Но прогнозирование общественной жизни в силу ее специфики и сложности имеет и не может не иметь стохастический (от греческого – догадка), вероятностный характер.
Абсолютизация законов общественной жизни изначально недопустима. Наука, формулируя абстракцию закона как выражение существенных, устойчивых, постоянно остающихся в явлениях причинно-следственных связей, фиксирует статику отношений. Эта сторона объективных законов общественной жизни, проявляющихся через целеполагающую деятельность людей, основательно разработана в традиционном марксизме.
«Закон берет спокойное, – писал В. И. Ленин, – и потому закон, всякий закон, узок, неполон, приблизителен»…, «явление богаче закона» [23, с. 136, 137]. Законы общественной жизни тем и отличаются от законов природы и юридических законов, что они не абсолютны. Они, подчеркивал К. Маркс,
«осуществляются весьма запутанным и приблизительным образом, лишь как господствующая тенденция, как некоторая никогда твердо не устанавливающаяся средняя постоянных колебаний» [31, с. 176]. Ф. Энгельс в письме К. Шмидту, характеризуя общественные законы, отмечал: «Все они не имеют иной реальности, кроме как в приближении, в тенденции, в среднем, но не в непосредственной действительности. Это происходит отчасти потому, что их действие перекрещивается с одновременным действием других законов, отчасти же вследствие их природы как понятий» [51, с. 355].
В структуре общества каждый закон действует не изолированно, а во взаимной связи с другими законами. Их действие нельзя вычленить из совокупного результата их функционирования – общественных процессов. Как справедливо отмечалось в старых учебниках, даже «выделение отдельных законов возможно лишь в теоретическом анализе» [42, с. 5]. Взаимодействие законов порождает противоречия, которые в сравнительно недавнем прошлом дорого обошлись и науке и практике. В «советском обществоведении» много сил и средств было затрачено на исследование общественных законов, механизмов их действия и использования. Но попытки их применения на практике часто имели не совсем тот или совсем не тот результат, которого можно было бы ожидать на основе устоявшихся представлений о действии того или иного закона, так сказать, в «чистом виде». Развитие социально-гуманитарных наук показало, что изучение законов общественной жизни позволяет выстроить теоретическую систему глубинного уровня, которая может развиваться относительно независимо от общественной практики. Но действие законов в реальной действительности модифицируется множеством конкретных обстоятельств, в числе которых важнейшее значение имеет практическая деятельность людей. Отсюда следует, что знание законов различных сфер общественной жизни отнюдь не гарантирует понимания и адекватного отражения в сознании реальной действительности. Наука начинается с наблюдения событий и явлений, накопления и классификации фактов, эмпирических данных (это тоже – научная деятельность), продолжается осмыслением причинно-следственных и иных связей между ними – выявлением далеко не всех законов и закономерностей, представления о которых подлежат постоянной корректировке в соответствии с диалектикой живой и неживой природы. В конечном счете, подлинно научное (теоретическое) социально-гуманитарное знание всегда относительно еще и потому, что оно должно учитывать экономические, социальные, политические, духовные и иные аспекты явлений и процессов, т. е. быть междисциплинарным.
Нужны опора на факты, знание практики развития всех основных сфер общественной жизни [38], что само по себе проблематично в силу специфики экономических, социальных, политических, духовных явлений и процессов. Само слово «теория» в первоначальном смысле означает наблюдение, исследование, обобщение опыта, практики деятельности. Здесь уместно также вспомнить: уже достаточно давно основоположники марксизма писали, что они знают «только одну единственную науку, науку истории» [29, с. 16, прим.]. Имелось в виду научное осмысление всей взаимосвязанной совокупности сведений о развитии природы и общества, технических и социальных средств общественного развития. Несмотря на то, что наука в целом и гуманитарное знание в частности с тех пор чрезвычайно дифференцировались, требование единого, универсального подхода к познанию природы и общества, единства естественнонаучного и гуманитарного знания сохраняет актуальность.
Примером такого единства является экономическая теория, в которой были четко выделены позитивный и нормативный подходы к явлениям общественной жизни. Известный английский экономист Дж. Н. Кейнс (отец Дж. М. Кейнса), преподававший экономику и философию в Кембриджском университете, в опубликованной впервые в 1891 г. книге «Предмет и метод политической экономии» подчеркивал различие между разными ипостасями экономической теории: «Позитивная наука может быть определена как совокупность систематических знаний, относящихся к тому, что есть; нормативная или регулятивная наука – как совокупность систематических знаний, относящихся к тому, что должно быть...; искусство – как система правил для достижения данной цели» [15, с. 27].
Это разграничение признается в современных условиях не только большинством экономистов мира. Считается, что позитивная экономическая наука принципиально независима от какой-либо этической позиции или нормативных суждений. Ее задачей является создание системы обобщений, которые можно использовать для корректного предвидения тех следствий, к которым приведет любое изменение обстоятельств. В «советском обществоведении» вообще и в политической экономии в частности в силу различных обстоятельств господствовал нормативный подход, как говорилось в кулуарах, преобладал «марксистский метод забегания вперед». Объективный анализ исторической, социально-экономической, социальнополитической реальности заменялся «теоретическим молебном» об общественных законах не существующего идеализированного социализма и закономерностях строительства утопического коммунизма. М. С. Горбачев признавал, что именно общественные науки «в наибольшей степени пострадали от культа личности, бюрократических методов руководства, догматизма и некомпетентного вмешательства» [32, с. 25]. Разумеется, «научность общественных наук» не ушла в прошлое, но она обеспечивалась практико-ориентированными разработками и переместилась преимущественно на неофициальный или полуофициальный уровень. В конечном счете, от такого их «способа существования» пострадало советское общество в целом. Тесная взаимосвязь, сопряженность состояния и развития общественных наук и национальной безопасности ярко проявились во всей истории СССР. И выдающиеся успехи, и трагический финал великой страны были во многом обусловлены ролью и местом обществоведения в социуме вообще и системе государственного управления в частности [см.: 39]. Хотя имевшая место в 1920-е – 1930-е гг., сопровождающаяся огромными жертвами, стабилизация советского общества и его последующие реальные достижения (Победа над фашизмом и освобождение человечества от коричневой чумы, ужасов возможного ядерного апокалипсиса, поддержка угнетенных народов мира в борьбе за политическую самостоятельность и социальный прогресс, прорыв в космос) сформировали надежную основу для патриотизма и гордости «со слезами на глазах» нашим историческим прошлым, социальные иллюзии сыграли роковую роль в самоликвидации нашей общей Родины. Поистине фатальную роль сыграли теоретические представления об исторических судьбах товарного производства, рынка, всех стоимостных категорий [см., напр.: 7, очерк четвертый].
Отголоски «марксистского забегания вперед» еще ощущаются в высказываниях современных методологов, утверждающих, что «практика, как и все сущее, находясь в постоянном изменении, развитии может не только опережать, но и отставать от теории» [13, с. 19]. Осталось только вспомнить марксов упрек «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [28, с. 4] и возродить большевистскую традицию подгонять отстающую практику к ушедшей вперед умозрительно выстроенной, самой правильной и прогрессивной теории. Тем более, что многие уже позабыли о красовавшемся многие годы на Красной площади лозунге «Силой загоним человечество в счастье!», а прислушиваться к «либералам», предупреждающим о пагубной самонадеянности познавших законы и претендующих на единственно верное научное знание закономерностей общественного развития [см., напр.: 50] у нас не принято.
Анализ исторического развития как взаимодействия различных социальных структур делает необходимым выделение важнейших «узлов»
общественных связей и их изучение с помощью разнотипных логических приемов. Одним из весьма чувствительных «узлов» общественного «организма» являются деньги. Это не только экономическая, но и социальная, политическая, юридическая, в определенном смысле, этическая категория. Очевидно, не будет преувеличением утверждение о том, что все вопросы экономики, политики и всегда тенью стоящей за ними идеологии так или иначе, в конечном счете, опосредованно, связаны с деньгами. Причем не только с деньгами как явлением реальной экономической действительности, порождающим или отражающим весьма сложные, противоречивые, часто не поддающиеся анализу вследствие своей латентности и межсферного характера процессы, но и с представлениями о деньгах. Им особенно «не повезло» в оценках «общественности». Начиная с Софокла, провозгласившего «что деньги – зло великое для смертных», и Аристотеля, критикующего хрематистику в отличие от одобряемой им ойкономии, они осуждались как причина и источник всех зол и несправедливостей. Правда впоследствии оценки денег диверсифицировались до нейтральных и даже положительных. «...Вряд ли можно отыскать в общественном хозяйстве вещь более незначительную по своей важности, чем деньги, – писал Дж. С. Милль. – Это лишь машина, которая быстро и удобно делает то, что в ее отсутствие делалось с меньшей быстротой и удобством» [49, с. 29]. А американский экономист Г. Ч. Кэрри утверждал, что «деньги – великие деятели в развитии общественности и то же для народного хозяйства, что и атмосферический воздух для тела физического» [21, с. 108].
Первоначально общественная мысль оценивала деньги как причину и средоточие всех несправедливостей и зол. В «идеальных» обществах Т. Мора, Э. Кабе, Т. Кампанеллы и других гуманистов прошлого обходились без денег. Диалектически мыслящим основоположникам марксизма также не удалось в условиях разнузданного капитализма свободной конкуренции рассмотреть в деньгах и порождающих их экономических условиях (частная собственность, экономическая обособленность субъектов хозяйствования, товарное производство, рынок) позитивные, конструктивные элементы, способствующие повышению эффективности, все больше превращающейся из инженерной и экономической категории в социально-политический и этический императив. Фактически, они отступили от диалектики, сделав вывод об их устранении с переходом к более высокому общественному строю. Эта идея оказала большое влияние и на теоретические представления о социализме, и на практику так называемых социалистических преобразований в первые годы советской власти (1918-1921 гг.), когда под влиянием начавшейся в период Первой мировой войны инфляционной эрозии экономики и по доктринальным причинам была предпринята попытка построения безденежного хозяйства.
Финансовый и продовольственный кризисы, инфляционное обесценение денег в период Первой мировой войны послужили важнейшими предпосылками революционных потрясений 1917 г. и формирования первой в истории человечества модели реального социализма [см.: 35; 36]. Если в 1914 г. общий уровень цен вырос на 28,7 %, в 1915 г. – на 20,2, в 1916 г. – на 93,5, то в 1917 г. – уже на 683,3%. Покупательная способность рубля снизилась к началу октября 1917 г. до 6-7 довоенных копеек [2, с. 81; 11, с. 37, 38, 52]. Это существенно упростило пропаганду большевиками лозунгов свержения Временного правительства в армии и пролетарских массах и захват ими власти.
Первоначально никто из приобщенных к выработке экономической политики большевиков не собирался уничтожать деньги. Прислушивающийся к рекомендациям «буржуазных специалистов» нарком финансов И. Э. Гуковский в апреле-августе 1918 г., до того как В. И. Ленин отправил его в отставку, проводил политику ограничения эмиссии и укрепления рубля. В представленной на заседании ВЦИК 15 апреля 1918 г.
программе финансовой стабилизации он предлагал принять экстренные меры, направленные на восстановление в стране кредитного аппарата, оздоровление и укрепление денежного обращения [см.: 37, с. 37-38]. Вместе с тем, еще в начале 1918 г. один из известных экономистов того времени Ю. М. Ларин предложил проект декрета об уничтожении денег и денежной системы. Когда и как это произошло, – неизвестно. В некоторых источниках лишь упоминается, что Ларин неоднократно пытался провести такой декрет через законодательные органы, начиная с 1918 г. [3, с. 52; 4, с. 155]. Во всяком случае, уже к середине января в периодической печати появились негативные отклики на эту инициативу. В статье члена коллегии наркомата финансов М. А. Ольминского, опубликованной в центральном органе правящей партии 9 января 1918 г. (даты по 31 января 1918 г. приводятся по старому стилю), говорилось: «В социалистическом обществе вовсе не будет денег. Деньги не нужны людям. Но вот встречаются товарищи, которые думают, что уже сейчас мы можем обойтись без денег, прожить одним только “натуральным обменом”. Такой обмен кое-где, кое в чем уже сейчас можно и нужно применять. Но ясное дело, что не везде и не во всем. Раньше нужно многое построить заново» [35].
Факт развернувшейся по поводу предложения Ларина дискуссии подтверждается и опубликованным 13 января в газете «Новая жизнь» комментарием А. М. Горького: «Было бы наивно и смешно требовать от солдата, вновь преобразившегося в крестьянина, чтоб он принял как религию для себя идеализм пролетария и чтоб он внедрил в своем деревенском быту пролетарский социализм. Мужик за время войны, а солдат в течение революции кое-что нажил, и оба хорошо знают, что на Руси всего лучше обеспечивают свободу человека – деньги. Попробуйте разрушить это убеждение или хотя бы поколебать его» [10, с. 89].
Сначала к ларинскому призыву ликвидировать деньги отнеслись как к теоретической фантазии «партийного чудака» (сам Ларин называл себя впоследствии «экономистом-утопистом»), но, как показала жизнь, этот проект имел в советском обществе большое будущее.
Социалистическое хозяйство представлялось практически всем теоретически мыслящим большевикам, ставшим неожиданно для самих себя первопроходцами социализма, как одно большое предприятие, «единая фабрика» («контора»), руководимая единым центром по общему хозяйственному плану. Предполагалось что охарактеризованный в общих чертах К. Марксом «непосредственно общественный характер производства», в котором «производители не обменивают своих продуктов» [30, с. 18] будет обеспечиваться не рыночными (через спрос и предложение, деньги), а прямыми, непосредственными, установленными государственным планом связями между государственными производственными ячейками и потребителями продукции. На состоявшемся в конце мая 1918 г. I съезде советов народного хозяйства «полевевший», уже сдавший полномочия первый председатель Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) Н. Осинский (В. В. Оболенский), говорил: «Для всех нас ясно – раз существует обмен и денежное обращение, нельзя говорить о социализме, нельзя создать социалистическое производство, которое не обменивается». Не отличающийся особенной «левизной» действующий председатель ВСНХ А. И. Рыков был практически солидарен со своим «левым» предшественником: «Невозможно организовать социалистическую фабрику, организовать «социалистическое» – по существу синдикалистское – управление этой фабрикой, когда она окружена товарообменом, когда она покупает и продает» [48, с. 98, 103]. Общее кредо, сформулированное позднее Н. Осинским, еще не вызрело, но уже витало в подсознании социальных инженеров: «Рынок уничтожается, продукты перестают быть товарами, деньги умирают. Товарообмен заменяется сознательным и планомерным распределением и передвижением продуктов» [41, с. 77]. Рынок и деньги считались чуждыми социализму капиталистическими инструментами эксплуатации и угнетения народных масс. «Рынок – это тот очаг заразы, из которого постоянно возникают зародыши капиталистического строя», – писал будущий академик АН СССР, впоследствии расстрелянный как «враг народа» Н. Осинский [40, с. 4].
Ленин, как прагматичный политик, глубоко понимающий роль денег в управлении людьми и политических процессах, много лет распоряжавшийся партийной кассой и лично выдававший из нее членам ЦК на жизнь и революционную деятельность, почитавший заповеди марксизма о деньгах, но приспосабливающий их для решения практических задач, считал необходимым сначала использовать деньги и банки для укрепления власти, для налаживания «универсального, всесильного, вездесущего, непреоборимого,… повсеместного, всеобщего» учета и контроля [24, с. 224; 25, с. 199]. В марте 1918 г. в черновом наброске проекта программы партии он сформулировал десять тезисов о советской власти, указал средства решения ее задач в экономической области. В числе последних были названы социалистическая организация производства, транспорта и распределения в общегосударственном масштабе, «сначала государственная монополия “торговли”, затем замена, полная и окончательная, “торговли” – планомерноорганизованным распределением ... под руководством Советской власти; принудительное объединение всего населения в потребительско-производительные коммуны»; не отменяя (временно) денег и не запрещая отдельных сделок купли-продажи отдельным семьям, мы должны прежде всего сделать обязательным, по закону, проведение всех таких сделок через потребительски-производительные коммуны»; «немедленный приступ к полному осуществлению всеобщей трудовой повинности»;... введение потребительски-рабочих (бюджетных) книжек» для регистрации в них сделок купли-продажи; «полное сосредоточение банкового дела в руках государства и всего денежно-торгового оборота в банках»…; «обязательное держание денег в банках и переводы денег только через банки»...;
постепенное выравнивание « всех заработных плат и жалований во всех профессиях и категориях»...; «неуклонные систематические меры к замене индивидуального хозяйничанья отдельных семей общим кормлением больших групп семей» (курсив Ленина) [26, с. 74-75].
В принятой VIII съездом РКП (б) в марте 1919 г. программе партии констатировалось: «В первое время перехода от капитализма к коммунизму, пока еще не организовано полностью коммунистическое производство и распределение продуктов, уничтожение денег представляется невозможным… Опираясь на национализацию банков, РКП стремится к проведению ряда мер, расширяющих область безденежного расчета и подготовляющих уничтожение денег: обязательное держание денег в народном банке; введение бюджетных книжек, замена денег чеками, краткосрочными билетами на право получения продуктов и т. п.» [44, с. 57].
В целях упорядочения денежного обращения и реализации его контрольных функций Ленин предложил создать Комиссариат Государственного банка с наделением его соответствующими полномочиями. Для повышения доверия к банковской системе были объявлены неприкосновенность вкладов, различные формальные упрощения для ускорения взносов денег в банки населением. Но все эти «рыночные уступки» сопровождались рядом принудительных действий: принятием мер к тому, чтобы население держало все деньги в банках, взиманием налогов с вкладов, сохранением рабочего контроля по отношению к выдаче денег из банков предприятиям, «нормировкой» выдач денег на потребительные цели [5, с. 59-60].
Стремление теоретиков и идеологов «социалистических преобразований» к уничтожению денег наталкивалось не только на недостаточную организованность «коммунистического производства и распределения продуктов», но и на привычку большинства населения к свободному распоряжению деньгами. Выпускаемые властью советские денежные знаки нужны были и для финансирования национализированных предприятий, а затем и Гражданской войны. Тем не менее, по свидетельству современника и участника тех событий, «в течение сравнительно короткого промежутка времени, начиная со средины 1918 г. до начала 1921 г. партия пролетариата неожиданно для самой себя скатилась к немедленному переустройству на безденежно-плановых началах страны, с подавляющим преобладанием крестьянских хозяйств. При этом дело шло уже не об одних
«подступах к коммунистическому обществу»
[19, с. 114]. Активно
способствовали этому уже
упоминавшийся
Ю. Ларин и его
единомышленники.
Очевидно,
именно Ларин
впервые пришел к
парадоксальному
выводу о
том, что галопирующая инфляция,
унаследованная от
старого режима,
–
не зло, а благо для диктатуры
пролетариата. Эмиссия денег сознательно использовалась не только для выживания власти, но и для подрыва экономической автономности и экспроприации всех слоев населения, сохранивших сколько-нибудь значительные денежные накопления, и ускорения «социалистических преобразований». Предполагалось, что ускоренное обесценение денег приведет в конечном счете к их нуллификации, самоликвидации и переходу к безденежному, бестоварному, безрыночному хозяйству. Понадобилось время, чтобы эта идея стала общепринятой в руководящих кругах. Как писал в 1920 г. один из теоретиков инфляционизма, бывший тогда председателем финансовой комиссии совнаркома, членом Оргбюро и секретарем ЦК РКП (б) Е. А. Преображенский, печатный станок наркомфина стал пулеметом, «который обстреливал буржуазный строй по тылам его денежной системы, обратив законы денежного обращения буржуазного режима в средство уничтожения этого режима и в источник финансирования революции» [43, с. 4].
По мере прогрессирующей утраты обесценивающимися деньгами экономического значения как средства эквивалентного и добровольного обмена становилось неизбежным использование насильственных методов борьбы с голодом и разрухой, установление диктатуры по отношению к собственникам продовольственных ресурсов – крестьянству. Это дало толчок дальнейшему развитию идей безденежного социализма и натурализации, «обезденежнию» общественных отношений на практике.
Экономические интересы немногочисленных по сравнению с общим населением пролетарских слоев населения в «эмиссионном хозяйстве» обеспечивались прогрессирующей натурализацией заработной платы – введением весьма скудных трудовых продовольственных и иных пайков, бесплатным предоставлением продуктов и натуральных услуг. К началу 1921 г. декретами СНК были последовательно провозглашены бесплатность детского питания, пользования почтой, телеграфом и телефоном, отпуска населению по классовому признаку продовольственных продуктов и предметов широкого потребления, отменена плата за всякого рода топливо, квартирная плата и оплата коммунальных услуг, плата за аптечные лекарства и произведения печати. Были отменены взаимные расчеты между национализированными предприятиями, других – фактически не осталось. В финансовых органах и научных институтах по распоряжению властей усиленно велись работы по введению новых методов учета в единицах трудовых затрат – «тредах», отождествляемых с одним часом простого общественно-необходимого труда. Кредит был упразднен, кредитные учреждения – частью ликвидированы, частью объединены с Народным банком, а 19 января 1920 г. СНК своим декретом преобразовал и этот последний банк в Центральное бюджетно-расчетное управление НКФ. В феврале 1921 г. Президиум ВЦИК постановил прекратить взимание сохранившихся государственных и местных денежных налогов и сборов. Важными условиями и предпосылками такой системы были осуществленная посредством различных интриг «всеобщая национализация» и фактическая экспроприация деревни.
Трагическая парадоксальность сложившейся в результате такого «скачка в коммунизм» ситуации проявилась в том, что поистине «героические» попытки ликвидации денежных, рыночных отношений в целом не только не улучшили положение рабочего населения, но, наоборот, снизив ответственность людей за свою жизнь и подорвав их заинтересованность в эффективном труде, довели его до катастрофического состояния. Итогом длительного периода разрушения рынка в годы мировой войны, революции и военного коммунизма в области денежного обращения и цен было увеличение с марта 1914 по март 1921 г. номинального количества бумажных денег в обращении примерно в 900 раз и рост цен почти в 30 тыс. раз при снижении промышленного производства в 7 раз и сельскохозяйственного производства почти вдвое [9, с. 54]. По другим данным, покупательная способность рубля упала за время войн и революции в 13 тыс. раз [45, с. 171].
Вынужденный переход к нэпу в принципе не изменил «генеральной линии». В конце лета – осенью 1921 г. была предпринята самая решительная «красногвардейская атака» на деньги. За три месяца сезонной реализации урожая НКФ выпустил в обращение 14 трлн. руб. Эта сумма в 7 раз превышала общую эмиссию за весь период после начала мировой войны [46, с. 122]. Так власть пыталась предотвратить усиление в результате допущения частных форм хозяйства чуждых укладов города и деревни, а заодно и заставить народ отказаться от использования стремительно обесценивающихся денег, «обнулить» их. Сам Ленин в процессе подготовки проведенной 3 ноября 1921 г. в связи с чрезмерными денежными «вливаниями» деноминации предлагал одному из организаторов этой акции Е. А. Преображенскому использовать для изготовления новых денег плохую бумагу, чтобы ускорить их самоликвидацию [27, с. 321, 322]. Только убедившись в беспочвенности этих надежд, он окончательно пришел к выводу о необходимости крутого изменения экономической политики и поворота к реальному оздоровлению денежного обращения, даже на основе золотого обеспечения.
Очередное приведение в действие «наркомфиновского пулемета» дало мощный толчок ускорению инфляции. Если в 1920 г. во время наивысшего расцвета «безденежного» военного коммунизма, цены выросли на 594 %, то в 1921 г. на 1614 %, а в 1922 г. почти на 7300 %. Не только потерпевшие собственники, но и рабочие массы, многие воевавшие за советскую власть большевики-партийцы сочли себя обманутыми и обворованными. Было от чего прийти в растерянность и даже обезуметь: в период денатурализации экономики с бесплатного, хотя и скудного, но гарантированного государственного снабжения снимались миллионы рабочих, служащих и членов их семей. По некоторым данным, к концу Гражданской войны на государственном обеспечении, включая все категории потребителей, находилось около 30 млн человек [45, с. 164]. Пожалуй, в чем-то похожую катастрофу, но еще больших масштабов пережили в связи с пока еще не завершенным бездарным и бездумным возвращением в лоно рыночных отношений апробированной в развитых странах смешанной экономики только народы Советского Союза в процессе и после самоликвидации великой Державы.
«Обезденежние» общественных отношений отнюдь не ограничивалось пределами военного коммунизма 1918-1921 гг. Оно продолжалось в других формах и в последующей советской истории. После ухода Ленина из жизни среди большей части руководителей партии и государства преобладали, по существу, антирыночные взгляды и настроения, наиболее отчетливо выраженные тем же Лариным: «Задачей нашей, как организаторов социализма, остается преодолеть рынок , но только подходя к этому преодолению применением товарно-денежных методов , а не воспрещением без оговорок и без экономической подготовки» [22, с. 24].
В последние годы нэпа строительство социализма вновь было отождествлено с натурализацией производства и общественных отношений. Все усилия по организации централизованно управляемой экономики (в терминологии отца германского «экономического чуда» профессора политической экономии, ставшего министром финансов, а затем и канцлером ФРГ Л. Эрхарда – принудительно направляемого хозяйства) опирались на так или иначе модифицированные исходные идеи. В ходе кредитной реформы 1930-1932 гг. были упразднены восстановленные в период нэпа коммерческий кредит, вексельное обращение, многозвенность и многоуровневость банковской системы. Постановление СНК СССР от 20 марта 1931 г. предписало Государственному банку стать расчетной организацией для обобществленного хозяйства, общегосударственным аппаратом учета производства и распределения продуктов [12, с. 263]. В системе координат государственного социализма рынок был заменен идеологически стерильными «планомерными товарно-денежными отношениями», потребительский спрос – «сознательным учетом и научным предвидением» и «стратегическими государственными интересами», деньги – «полностью планомерно используемым эквивалентом» [18, с. 218].
Создание основ экономики государственного социализма и соответствующие преобразования кредитной сферы сопровождались возрождением идей отмирания денег, превращения их в номинальные счетные единицы, в расчетные знаки. Помнившие ленинские идеи 1918 г. некоторые авторы начали писать об отмирании торговли. Эти идеи жестко критиковал на XVII съезде партии И. В. Сталин. В отчетном докладе ЦК он с присущей ему простотой и политической заостренностью говорил: «…Развертывание советской торговли является той актуальной задачей, без решения которой невозможно дальше двигаться вперед. И все же, несмотря на полную очевидность этой истины, партии пришлось преодолевать за отчетный период целый ряд препятствий на пути к развертыванию советской торговли… В рядах одной части коммунистов все еще царит высокомерное, пренебрежительное отношение к торговле вообще, к советской торговле, в частности… Эти люди не понимают, что советская торговля есть наше, родное, большевистское дело, а работники торговли, в том числе работники прилавка, если они только работают честно, – являются проводниками нашего, революционного, большевистского дела. Понятно, что партии пришлось слегка погромить этих, с позволения сказать, коммунистов…
Во время Великой Отечественной войны по инициативе И. В. Сталина деньги активно использовались и для стимулирования массового героизма на фронте и в тылу [см.: 20; 34].
В процессе формирования политической экономии социализма вместе с деньгами и другими категориями товарного хозяйства признали исключительно капиталистическим явлением и инфляцию. «К денежному обращению СССР нельзя подходить с теми мерками, которые выработались в пределах капиталистического хозяйства», – говорилось в работе Ф. И. Михалевского, написанной в начале 1929 г. – В результате экономического регулирования цен и других мер, связанных с социалистическим строительством и искоренением остатков капитализма, наше хозяйство «приобретает известный иммунитет против инфляции» [33, с. 10]. «В силу особенностей планового социалистического производства, безраздельно господствующего в нашей стране, советская экономика исключает возможность инфляции», – писал в 1935 г. будущий академик и заместитель председателя правительства СССР, также расстрелянный впоследствии как «враг народа» Н. А. Вознесенский. – Характерной особенностью инфляции является развал хозяйства и обнищание рабочего класса. Уже по одному этому социализм, не знающий кризисов и непрерывно повышающий жизненный уровень трудящихся, исключает инфляцию» [8, с. 43]. Впоследствии аналогично рассуждал и Н. С. Хрущев. Во время беседы с американскими журналистами в 1958 г. он говорил: «Инфляции у нас не может быть, потому что когда составляется бюджет и производственные планы, учитывается, какое количество денег будет выдано в виде заработной платы, какое количество нужно произвести товаров, чтобы сбалансировать денежную массу к выпускаемой массе товаров, и так далее. Таким образом, в нашем социалистическом хозяйстве инфляция может быть только в результате неправильного расчета при составлении планов, иначе говоря, она исключена» [6, с. 8]. Наличие инфляции в СССР было признано лишь в середине 80-х гг., когда серьезный финансовый, продовольственный и денежный кризис положили начало развалу советского общества эпохи «перестройки».
Хотя деньги по самой своей природе, в силу «распыленности» в экономике и неравномерного распределения между различными хозяйствующими субъектами не могут полностью контролироваться властью, в советские времена государство отслеживало и корректировало их накопление и использование. На смену «эмиссионному хозяйству» времен военного коммунизма и драматического перехода к нэпу пришли неэквивалентный обмен с деревней и частным сектором экономики, скрытая и подавленная инфляция государственного социализма. Добровольнопринудительные займы «развития народного хозяйства» около двадцатипяти лет изымали часть покупательной способности населения. «Сталинская» денежная реформа 1947 г. была проведена в точном соответствии с экспроприационным ленинским планом весны 1918 г., только с частичной заменой новыми обращающихся ранее денег. «Полное планомерное использование эквивалента» продолжалось и после деноминации и ревальвации 1961 г., которыми попытались превратить советский рубль в «самую прочную валюту в мире», в средство построения уравнительного коммунизма. Условия обмена крупных купюр в 50 и 100 руб. в январе 1991 г. (короткий срок обмена, количественные ограничения и др.) были нацелены на изъятие из оборота части «избыточных», неправедно нажитых денежных накоплений: из 48 млрд. руб., выпущенных в крупных купюрах, были предъявлены к обмену лишь 41,2 млрд. [14, с. 4].
«Перестройка» и «гласность» превратили скрытую инфляцию в открытую, что способствовало разрушению потребительского рынка, перерастанию финансового и продовольственного кризисов в духовный, усилило стремление политических, экономических и уголовных элит, а также разнообразной мелкой шушеры в очередной раз «отнять и поделить», но уже не заводы и фабрики, землю и имущество, а огромную страну.
По большому счету, советское общество оказалось жертвой генетически присущего ему неуважения к собственности, хозяйственной и интеллектуальной автономии личности, юридическим и этическим нормам, правам и достоинству каждого отдельного человека, – всему тому, что находит концентрированное выражение в категории денег, а также собственного неумения выстроить и укоренить институты, ограничивающие и облагораживающие естественное стремление людей к деньгам, повышению своего благосостояния, обращающие это стремление и даже человеческие недостатки на общую пользу. Можно также утверждать, что это – и результат неумения использовать накопленное человечеством социально-гуманитарное знание в интересах обеспечения собственной (национальной) безопасности.
Мировая теория и практика свидетельствуют о том, что деньги – не просто инструмент экономики и политики. Они выполняют важную созидательную роль. В рыночных системах являются стимулом эффективной профессиональной и хозяйственной деятельности, развития и наиболее полной реализации заложенных в человеке задатков и способностей; выступают основой свободных и ненасильственных социальных связей юридически равноправных субъектов общественного действия, правового общественного устройства; обеспечивают их собственникам и умеющим хорошо зарабатывать экономическую и правовую независимость. Социально опасные последствия функционирования денег поддаются государственной, общественной и индивидуальной нейтрализации. Это самый мощный инструмент власти, что в сочетании с другими обстоятельствами обусловило их постепенное огосударствление. Наряду с армией, спецслужбами, границами, гимном, гербом и флагом деньги являются атрибутом и способом утверждения государственности. Государство несет ответственность за состояние денег и денежного обращения. Устойчивость денег является одним из основных прав человека, каждый гражданин вправе требовать от государства ее сохранения [51, с. 20]. Но государство не создает устойчивых денег, оно может только способствовать их эффективному функционированию. Устойчивые деньги создаются эффективным рынком, всей хозяйственной и общественной системой. «Здоровая и устойчивая система денежного обращения является продуктом сравнительно высокой экономической культуры, и исторический опыт показал, что такая система может существовать в течение длительного промежутка времени лишь в экономически очень мощной стране... «Душу» денежного обращения нельзя найти в одних постановлениях о денежной системе; ее можно понять только, как производное всей хозяйственной системы…» [52, c. 9, 301].
Список литературы Деньги: иллюзия и фатум советского общества, или социально-гуманитарное знание в системе национальной безопасности
- Аникин, А. В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко / А. В. Аникин. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.
- Атлас, З. В. Деньги и кредит (при капитализме и в СССР) / З. В. Атлас. - М.-Л.:Госиздат,1930.
- Атлас, З. В. Очерки по истории денежного обращения в СССР (1917-1925) / З. В. Атлас. - М.: Госфиниздат, 1940.
- Атлас, З. В. Социалистическая денежная система / З. В. Атлас. - М.: Финансы, 1969.
- Базулин, Ю. В. Ленин. Деньги, банки, власть / Ю. В. Базулин // Конфликтология. - СПб., 2011. - № 1.
- Беседа Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева с владельцем и издателем американской газеты «Джорнэл оф коммерс» Э. Риддером и редактором этой газеты Г. Людике // Внешняя торговля. - М., 1958. - № 4.
- Валовой, Д. В. Социализм и товарные отношения. Проблемно-исторические очерки политической экономии социализма / Д. В. Валовой, Г. Е. Лапшина. - М.: Экономика, 1972.
- Вознесенский, Н. А. О советских деньгах / Н. А. Вознесенский // Большевик. - 1935. - № 2.
- Голанд, Ю. Финансовая стабилизация и выход из кризиса. Уроки советского червонца / Ю. Голанд // Коммунист. - 1991. - № 3.
- Горький, М. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре / М. Горький. - М.: Современник, 1991.
- Гусаков, А. Д. Очерки по денежному обращению России. Накануне и в период Октябрьской социалистической революции / А. Д. Гусаков. - М.: Госфиниздат, 1946.
- Денежное обращение и кредитная система Союза ССР за 20 лет. Сб. важнейших законодат. материалов за 1917-1937 гг. - М.: Госфиниздат, 1939.
- Дикселис, В. П. Философско-методологические основы научности преподавания социальных наук / В. П. Дикселис // Идеологические аспекты военной безопасности. - Минск, 2012. - № 1.
- Димов, Д. Нет худа без добра / Д. Димов // Правда. - 1991. - 12 февр.
- Кейнс, Дж. Н. Предмет и метод политической экономии / Дж. Н. Кейнс. Пер. с англ. - М.: Тип. И. А. Баландина, 1899.
- Кохановский, В. П. Философия для аспирантов: Учеб. пособие / В. П. Кохановский [и др.]. Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2003.
- Кохановский, В. П. Основы философии науки: учеб. пособ. для аспирантов / В. П. Кохановский [и др.]. Изд. 4-е. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007.
- Кронрод, Я. А. Деньги в социалистическом обществе. Очерки теории / Я. А. Кронрод. 2-е перераб. изд. - М.: Госфиниздат, 1960.
- Кузовков, Д. В. Основные моменты распада и восстановления денежной системы / Д. В. Кузовков - М.: Изд-во коммунист. академии, 1925.
- Кустов М. В. Цена Победы в рублях / М. В. Кустов. - М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011.
- Кэри, Г. Ч. Политико-экономические письма к президенту Американских Соединенных Штатов / Г. Ч. Кэри. - М.: Бахметев, 1860.
- Ларин, Ю. Итоги, пути, выводы новой экономической политики / Ю. Ларин. - М.: Московский рабочий, 1923.
- Ленин, В. И. Философские тетради / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 29. - М.: Политиздат, 1980.
- Ленин, В. И. Русская революция и гражданская война / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 34. - М.: Политиздат, 1981.
- Ленин, В. И. Как организовать соревнование? / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 35. - М.: Политиздат, 1981.
- Ленин, В. И. Черновой набросок проекта программы / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 36. - М.: Политиздат, 1981.
- Ленин, В. И. В. И. Ленин - Е. А. Преображенскому / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 53. - М.: Политиздат, 1975.
- Маркс, К. Тезисы о Фейербахе / К. Маркс // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 3. - М.: Госполитиздат, 1955.
- Маркс, К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 3. - М.: Госполитиздат, 1955.
- Маркс, К. Критика Готской программы / К. Маркс // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 19. - М.: Госполитиздат, 1961.
- Маркс, К. Капитал. Т. 3 / К. Маркс // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. 1. - М.: Госполитиздат, 1961.
- Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня - 1 июля 1988 г. - М.: Политиздат, 1988.
- Михалевский, Ф. И. К методологии изучения нашего денежного обращения / Ф. И. Михалевский. - М.: Изд-во коммунист. академии, 1930.
- Ольминский, М. А. Дела денежные и финансовые / М. А. Ольминский // Правда. - 1918. - 9 января.
- Ольшевский, В. Г. Деньги и становление советского общества / В. Г. Ольшевский // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. - Новосибирск, 1998. - № 9.
- Ольшевский, В. Г. Финансово-экономическая политика советской власти в 1917-1918 гг.: тенденции и противоречия / В. Г. Ольшевский // Вопросы истории. - М., 1999. - № 3.
- Ольшевский, В. Г. Диалектика теории и практики в преподавании социально-гуманитарных наук: проблемы методологии и методики / В. Г. Ольшевский // Идеологические аспекты военной безопасности. - Минск, 2011. - № 3.
- Ольшевский, В. Г. Национальная безопасность и социально-гуманитарные науки в контексте коэволюционной парадигмы: исторический опыт, проблемы, перспективы / В. Г. Ольшевский // Материалы Междунар. электронного симпозиума «Акт. вопр. и перспективы развития современных гуманитарных и общественных наук». - Махачкала: МИУ, 2015.
- Осинский, Н. Строительство социализма, Общие задачи. Организация производства / Н. Осинский. - М.: Госиздат, 1918.
- Осинский, Н. Общие задачи экономической диктатуры и основные этапы экономического строительства / Н. Осинский // Октябрьский переворот и диктатура пролетариата. Сб. статей / Н. Бухарин, В. Милютин, К. Радек, И. Сталин [и др.]. - М.: Госиздат, 1919.
- Политическая экономия: Учеб. для экон. вузов и фак. / Ред. коллегия: Румянцев А. М. [и др.]. Т. 2. Изд. 2-е, доп. - М.: Политиздат, 1976.
- Преображенский, Е. А. Бумажные деньги в эпоху пролетарской диктатуры / Е. А. Преображенский. - М.: Госиздат 1920.
- Программы и уставы КПСС. - М.: Политиздат, 1969.
- Развитие советской экономики / Под ред. А. А. Арутиняна и Б. Л. Маркуса. - М.: Соцэкгиз, 1940.
- Сокольников, Г. Я. Финансовая политика революции / Г. Я. Сокольников. В 2 т. Т. 1. - М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1925.
- Сталин, И. В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 янв. 1934 г. / И. В. Сталин // Соч. Т. 13. - М.: Госполитиздат, 1951.
- Труды I Всероссийского съезда советов народного хозяйства (Стеногр. отчет). - М.: ВСНХ, 1918.
- Усоскин, В. М. Проблемы денег в экономической теории Запада. Вступ. ст. к кн.: Харрис Л. Денежная теория / В. М. Усоскин. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.
- Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма / Ф. А. Хайек. Пер. с англ. - М.: Изд-во «Новости», 1994.
- Энгельс, Ф. Ф. Энгельс - Конраду Шмидту, 12 марта 1895 г. / Ф. Энгельс // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 39. - М.: Госполитиздат, 1966.
- Эрхард, Л. Благосостояние для всех / Л. Эрхард. Репринт. воспроизведение: Пер. с нем. - М.: Начала-Пресс, 1991.
- Юровский, Л. Н. Денежная политика Советской власти (1917-1927) / Л. Н. Юровский. - М.: Финиздат, 1928.
- Яснопольский, Л. Наше денежное обращение в эпоху революции / Л. Яснопольский // Журнал Киевского экономического совещания. - Киев, 1923. - № 7.