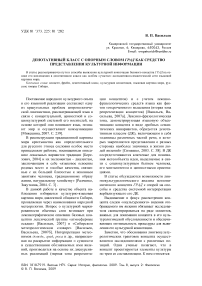Денотативный класс с опорным словом град как средство представления культурной информации
Автор: Васильев Василий Петрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются пути и способы выявления культурной коннотации базового концепта ГРАД на основе его воплощения в денотативном классе как особом «участке» ассоциативно-семантической сети языковой картины мира.
Концепт, фрейм, денотативный класс, культурная коннотация, языковая картина мира, русские говоры сибири
Короткий адрес: https://sciup.org/14737056
IDR: 14737056 | УДК: 81
Текст научной статьи Денотативный класс с опорным словом град как средство представления культурной информации
Постижение народного культурного опыта в его языковой реализации составляет одну из краеугольных проблем антропологической лингвистики, рассматривающей язык в связи с концептуальной, ценностной и социокультурной системой его носителей, на основе которой они понимают язык, познают мир и осуществляют коммуникацию [Микешина, 2007. С. 239].
В реконструкции традиционной картины мира крестьянства как определительного для русского этноса сословия особое место принадлежит работам, посвященным описанию локальных вариантов традиции [Бере-зович, 2004] и их экспонентам – диалектам, заключающим в себе «языковое освоение родных мест» и «особые качества, связанные с их большей близостью к исконным занятиям человека, традиционному образу жизни, натуральному хозяйству» [Радченко, Закуткина, 2004. С. 3] .
В данной работе в качестве объекта наблюдения избирается культурно-языковая картина мира диалектной общности Сибири, проявляемая через наименования народной метеорологии. Вопрос о культурной маркированности обычных слов возникает при лексикографическом описании базовых концептов лексической группы «атмосферные осадки» [Васильев, 2007] в «Сибирском метеорологическом словаре» [Васильев, Васильева, 2007б]. Интерпретация метео-нимов дождь, град, роса и др., направленная на раскрытие информации о сущности и существовании обозначаемых ими явлений, производится на основе их дискурсивных реализаций (первая зона репрезента- ции концептов) и с учетом лексикофразеологических средств языка как фактов «отсроченного» мышления (вторая зона репрезентации концептов) [Васильев, Васильева, 2007а]. Лексико-фразеологическая зона, демонстрирующая языковую объективацию концепта в виде дробных семантических инвариантов, образуется денотативным классом (ДК), включающим в себя «единицы различных частей речи, в которых закрепляются представления о разных сторонах наиболее значимых в жизни людей явлений» [Симашко, 2003. С. 38]. В ДК сосредоточиваются ключевые для понимания метеообъекта идеи, выделяемые в связи с социокультурным бытием человека, его менталитетом и ценностными ориентациями.
В статье обсуждаются возможности лингвокультурологического анализа метеони-мического концепта ГРАД с опорой на способы и средства системной интерпретации вербализующего его ДК.
Выдвижение в фокус рассмотрения концепта следов «окультуренного» видения отображаемого им явления обязывает исследователя сконцентрироваться на ряде моментов, важных для понимания концепта в его культурологической обусловленности и обеспечивающих оптимальноcть процедуры для выявления его культурной коннотации.
Заметим, что обоснования лингвокультурологических трактовок концепта осуществляются исследователями с различных позиций. Одни ученые полагают, что в концепт проектируются элементы культуры по трем ее составляющим. К ним относятся:
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 2: Филология © В. П. Васильев, 2009
-
а) цивилизационная составляющая, символизирующая собой результаты хозяйственной деятельности людей в соответствии с прохождением различных ступеней технического и технологического развития данного сообщества;
-
б) социально-психологическая составляющая, вбирающая в себя национальный характер, менталитет (особенности мышления), проявления нравственности;
-
в) модусная, или деятельностная, составляющая, указывающая на способы освоения действительности, восприятия и передачи информации [Иванова, 2004. С. 14].
Другие, акцентируя внимание на аксиологической природе концепта, подчеркивают доминирование ценностного элемента, существующего в его содержательной организации наряду с образным и понятийным (фактуальным) компонентами [Карасик, Слышкин, 2005. С. 13–14], ибо оценкой задаются направления (аспекты) концептуализации явления и ее признаковая избирательность. Господствующая роль оценки, пребывающей в неразрывном единстве с дескриптивной стороной концепта, «сводится, с одной стороны, к расчленению дескриптивного “поля” концепта и к его ограничению, а с другой – к объединению дескриптивных признаков под началом позитивной и негативной модальности» [Васильев, 2003. С. 160].
Вместе с тем, как бы ни была обозначена сопряженность концептосферы и культуры при ее опосредовании языком, основная процедура лингвокультурологического анализа заключается в согласовании инвентаря параметров (т. е. фрейма) концептуализируемого явления, которое стоит за метеонимом град [Васильев, 2005. С. 34–52]), с воплощающими их номинативными средствами [Васильев, 1993. С. 8], включенными в ассоциативно-семантическую сеть языковой картины мира [Телия, 1996. С. 259, 261] .
При изучении номинативных единиц ДК град, между которыми порционно и далеко не полностью распределяется его концептуальное содержание, воссоздается представление о нем как летнем атмосферном явлении во время грозы и / или бури, чреватом губительными последствиями для сельскохозяйственных угодий, частей построек, домашней птицы вследствие интенсивного выпадения полосой в виде преимуществен- но крупных частиц льда. При этом на первое место выдвигается осмысление метеоявления как опасного для человека и объектов, важных в его жизнедеятельности.
Системным понятием, которое в этом ракурсе претворяет образ града и тем самым предопределяет логику его языкового развертывания, является общерусская лексема градобой ‘уничтожение или повреждение крупным градом посевов, садов, огородов и т. п.’ (ср. прасл. * gradobitъ / *gradobitь) . Ср. Градоб о й в двадцать пятом году был, усе поб и ло, голодов а ли потом (Бурят. Мухор. Ник.). В ее содержании кроме манифестации компонентов среды, составляющих условия и средства для человеческого бытия, содержится указание на губительность действий крупного града. Утилитарной оценкой, реализующейся набором двоичных признаков «вредный – безвредный», «опасный – неопасный», задается характер «ветвления» этой темы (бурят. гр а дище , кем. градов о й… дождь , том. градоб о йный… хлеб ), передаваемый сетью системных связей слов в ДК. С лингвокультурологической точки зрения метеоявление подвергается языковому расчленению в тех границах, которые очерчиваются, с одной стороны, «акциональным» содержанием внутренней формы лексемы градобой (< глаголом нанесения удара бить ‘ударять, стучать во что-л., обо что-л., по чему-л.’, его гнездом и семантическими соседями) и, с другой стороны, системноязыковым проявлением импликативных связей семантических компонентов, организующих лексическое значение упомянутой лексемы.
Такая особенность града, как размер составных частиц, которым определяется диапазон их воздействия на объекты окружающей среды, предполагает оценку крупного града в сравнении с мелким.
Мелкие градины, выпадающие чаще, чем крупные, и отличающиеся преимущественной безвредностью, в сибирских говорах получают следующие наименования: общерус. градинка ‘уменьш. к градина’ и – диал.: кем., н-сиб. крупа ‘мелкий град’. Град был, крупа невредна, а сильный град в войну был, по голове бил (Кем. Юрг. Зел.). Летом вредная и град, и крупа. Град пройдёт, всё прибьёт, и крупа тоже, хотя не так (Кем. Юрг. Н-ром.). Смысловое поле диалектного слова, органически связанное с историей его существования (прасл. *krupa и – *kruxъ / kruxa ‘кусок, обломок пресного хлеба, который при еде крошился’), удерживает в себе через метафорическую модель «продукт питания - природное явление» информацию о «пищевом», следовательно, о позитивном плане осмысления номинируемого им явления. Ср. Крупа говорили, это меленько идёт, тоже град, только он мелкий, как ячмённый (Кем. Яшк. Полом.).
«Пищевая» призма восприятия атмосферных осадков наблюдается в смежных ДК: алт., бурят., ирк., красн., том. бус ‘мелкий или очень мелкий дождь’ и - кем., ирк., тюм. и др.‘мучная пыль на мельницах, идущая на корм скоту’, кем., н-сиб. ‘мягкая белая мука мелкого помола, сеянка’; красн. мукос е й ‘мелкий или очень мелкий частый дождь’; ом. бус а н ‘мелкий снег’, общерус. крупа ‘снег в виде мелких шаровидных зёрнышек’, том. чильг а , н-сиб. шар о ховый снег - ‘снежная крупа’. Подобный способ восприятия града прослеживается на материале славянских языков: срб-хрв. кр у пица ‘град, крупа’ < ‘мука крупного помола’, слвц. kr u py ‘ град, крупа’ < ‘грубо перемолотое зерно, крупа’, укр. круп и , мн. ‘мелкий град’ < ‘крупа’ и др., а также срб-хрв. кр у- пити ‘падать (о крупе, граде)’ < ‘грубо, крупно молоть’.
Акциональная сущность града выражается в языке корнесловом глагола бить (см. выбить, кем., красн. заб и ть , кем. изб и ть , побить, повыбить, прибить, разбивать , сбить , убить и др.) и его симилярами (том. похвост а ть ’сильно побить градом’, кем. пооб и деть , н-сиб. пох и тить - ’повредить, испортить’): „.а град-то вредный, аж гусят побьет, как по осени (Кем. Яшк. Кул.); Град бывал крупный, хлеба выбивал (Кем. Юрг. Митр.), ... а тут град пошёл , и всё в огороде прибило , ничё не осталось (Кем. Яшк. Итк.); Если он [ град ] будет сыпать, он всю и землю прибьет (Кем. Юрг. Вар.); У нас картошку всю градом пох и тило (Н-сиб. Чулым. Итк.).
В глаголах мотивационного блока, сочетающихся с названиями объектов не только рукотворной среды, отображается деформирующее воздействие на них (удаление, отделение, давление, лишение жизни и т. д.) и изредка фиксируется профиль жизненно важных реалий: выбить ‘уничтожить градом _ (посевы, всходы, поле и т. д.)’, побить ‘уничтожить, повредить посевы чего-л., какую-л. растительность (о неблагоприятной погоде, стихийном бедствии и т. п.)’, кем. прибить ’прижать, пригнуть к земле (ударом чего-л., силою ветра, дождем, градом и т. п.)’. Указанием на вид объекта сопровождается толкование слов с ограниченной или замкнутой сочетаемостью: том. градобойный ’побитый градом, попавший под град (о растениях)’. Ср. Градобойный хлеб был хороший (Том. Кож. Юв.).
Кроме этого «оптика» языка высвечивает в некоторых акциональных глаголах сельскохозяйственное основание их идентификации. Так, перенос названия сельскохозяйственного действия на «действия» метеоявления свернуто содержится в диалектном глаголе похво-ст а ть ‘сильно побить градом’, вбирающем в себя семантическую цепь: < лит. хвост а ть ‘хлестать, сечь’ < диал. ‘молотить рожь, ударяя колосьями о брус’ < прасл. * xvostъ и - ср. авест. xvasta ‘молочёный’). Аналог метафорической модели также обнаруживается в литературном языке: молотить ‘ударять, колотить’ < ‘выколачивать, выбивать зерна из колосьев, метёлок’ (< прасл. * moltiti < * moltъ ‘раздробляющий’ < * melti < и.-е. * mel -‘размельчать, молоть’). Ср. Заснули мы на часок. Просыпаемся - по спинам град молотит . Всё поле как скосило! (Николаева «Жатва»).
Моделирование аспекта «агрегатное состояние осадков», базирующееся на координации системных измерений слов град и вода - парадигматики ( град х вода , опосредованное глаголом таять ‘превращаться в жидкое состояние под действием тепла, влаги’), эпидигматики ( град > градов а я ) и синтагматики ( градов а я ‘образовавшаяся от таяния града’ „.вода ), поддерживается культурной традицией использовать градовую воду в лечебных целях. Ср. Раньше собирали его [град] как лечебный, таяли в бутылках и мыли глаза (Кем. Яшк. Кул.) (ср. обычай умывания для красоты и здоровья росой [Васильев, 2005. С. 104]).
В представление о градобое как событии «втягиваются» также его характеристики, указывающие на место и время проявления.
Темпоральным пиком интенсивного града, наиболее актуальным для носителей языка, считается лето. Ср. Градоб о й в лето раз или два, если жаркое лето (Ом. Мур. Сетк.). Зависимость « град ^ лето » (ср. летний град и градобойное лето ) удерживается в памяти говороносителей еще и ассоциациями с церковным праздником в честь
Ивана-градобойца, который приурочивается к летнему Иванову дню. Суть его как одного из праздников весенне-летнего цикла, неравномерно сохранившихся в традиционной культуре, составляют запреты работать на земле, направленные на профилактику градобития [Агапкина, 2002. С. 333–338], на предотвращение, по выражению древнерусских писцов, «градного гнева». Ср. Ив а н-градоб о ец в июне был, никто не ходит в огород, чтоб града не было (Ом. Мур. Сетк.).
Пространственные пределы выпадения града идентифицируются метрическими особенностями хозяйственно важных реалий: Град как полосой прошёл, картошку поломало, всё побило (Кем. Яшк. Кул.). В номинации локуса посредством общерусского словозначения полосой отображается мыслительная операция по формированию косвенно-производного значения на основе его соотнесенности с первичным ЛСВ ‘участок земли, пашни’. Агрономическая нацеленность в освоении явления дополнительно воспроизводится диалектным наименованием в обычном и компаративном употреблении – алт. гряд а ‘о полосе града’, алт., кем. как гряд о й ‘в виде полосы (о выпадении града)’, в семантическую палитру которого еще в праславянский период (ср. прасл. * gręda ) входит и значение ‘грядка’ [Толстой, 1969. С. 138].
Символическая наглядность придается локусу града также в термине ткачества, что достигается путем аналогии полосы града с холстом . Ср . Как зашёл [град] холст о м, так и всё побило (Кем. Юрг. Зел.).
Рассмотрение метеонимического концепта с точки зрения обусловленности его содержания культурологической призмой восприятия отображаемых явлений показывает, что «концептуальная система зависит от нашего физического и культурного опыта и непосредственно связана с ним» [Лакофф, 1988. С. 48]. Природные реалии моделируются в языке с участием представлений, детерминируемых повседневными культурными практиками – земледелием, ткачеством, религией, народной медициной и пр. Сказанное актуализирует необходимость обоснования мысли о том, что «природа на самом деле есть артефакт культуры…» [Сандомирская, 1999. С. 128].
Основными источниками хранимой в языке культурологической информации о граде являются единицы ДК, «оязыковляющие» базовый концепт в тех или иных конфигураци- онных границах. К ним относятся: а) назва-ния-культуремы (Иван-градобоец,); б) метафорические обозначения и образные сравнения (крупа, гряда, полосой, холстом, похвостать); в) лексическая сочетаемость (градобойный хлеб); и др.
Восполнение этих единиц синтаксическими конструкциями (ср. градов а я вода ) влечет к исследованию культурно-языковой картины мира в динамическом аспекте, к расширению ДК до ассоциативных полей, которые квалифицируются нами как идеографическая форма экспонирования концепта [Васильев, Васильева, 2002]. В этом случае культурологический компонент, сосредоточенный в разных единицах поля, может быть «привязан» либо к базовому концепту (тогда в структуре концепта выделяется культурологический слот) [Васильев, Васильева, 2007а], либо к тем единицам, которые не только участвуют в номинации при языковом расчленении базового концепта (единицы ДК), но и являются необходимыми элементами при его синтаксическом развертывании. Ср., к примеру, контекст: … их [огурцы] скосит, как косилкой, градом. Ну как кур и но яйцо полетит, он всё скосит (Кем. Юрг. В.-Тайм.) и – Заснули мы на часок. Просыпаемся – по спинам град молотит. Всё поле как скосило ! (Николаева «Жатва»).
Таким образом, факты, транслирующие из поколения в поколение присущий русскому народу стиль мировидения [Телия, 1996. С. 251], обусловленный влиянием культурного фактора на его менталитет, могут быть усилены и дополнены данными при обращении к другим ДК внутри категории и, что не менее важно, к динамической стороне языковой картины мира.
DENOTATIVE СLASS WITH THE BASE-WORD HAIL AS A MEAN OF REPRESENTATION OF CULTURAL INFORMATION
The article considers the ways and methods of cultural connotation detection of the base-concept HAIL in terms of its implementation in a denotative class as a special «area» of associative semantic net of linguistic world image.