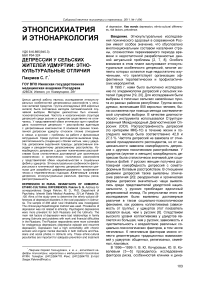Депрессии у сельских жителей Удмуртии: этно-культуральные отличия
Автор: Пакриев Сергей Галинурович
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Этнопсихиатрия и этнонаркология
Статья в выпуске: 1 (64), 2011 года.
Бесплатный доступ
Целью данной работы явилось исследование этнокультуральных особенностей депрессивных расстройств у сельских жителей Удмуртии. Группа исследуемых (293 взрослых жителя) была составлена методом систематической случайной выборки. Методом диагностики был клинико-психопатологический. Частота и нозологическая структура депрессий среди русских и удмуртов существенно не отличались. У представителей обеих этнических групп преобладали психогенные депрессии - расстройства адаптации с депрессивным компонентом. К основной причине психогенной депрессии удмурты относили плохие отношения в семье, а русские - проблемы на работе и финансовые затруднения. Среди русских респондентов выявлена предрасположенность (тенденция) к более частым, чем у удмуртов, депрессиям эндогенной природы: депрессивным эпизодам и рекуррентному депрессивному расстройству. Ко-морбидность депрессии с другими психическими расстройствами была статистически достоверной для хронических соматических и органических психических расстройств у представителей обеих национальностей и социальных фобий у удмуртов. Этнокультуральные особенности факторов риска и клинической картины депрессий являются ценными для разработки дифференцированных профилактических и терапевтических подходов.
Депрессия, этнокультуральные различия, факторы риска, распространенность
Короткий адрес: https://sciup.org/142100774
IDR: 142100774 | УДК: 616.895(945.3)
Текст научной статьи Депрессии у сельских жителей Удмуртии: этно-культуральные отличия
Введение . Этнокультуральные исследования психического здоровья в современной России имеют особое значение, что обусловлено многонациональным составом населения страны, сложностями переживаемого периода времени и недостаточной разработанностью данной актуальной проблемы [2, 7, 8]. Особого внимания в этом плане заслуживают этнокуль-туральные особенности депрессий, многие аспекты которых остаются еще недостаточно изученными, что препятствует организации эффективных терапевтических и профилактических мероприятий.
В 1995 г. нами было выполнено исследование по эпидемиологии депрессий у сельских жителей Удмуртии [19, 20]. Для исследования были выбраны 4 типичных сельских населённых пункта из разных районов республики. Группа исследуемых, включавшая 855 взрослых человек, была составлена при помощи метода систематической случайной выборки. В качестве диагностического инструмента использовался Структурированный Международный Диагностический Опросник (CIDI). Распространённость депрессий (по критериям МКБ-10) в течение жизни и последнего месяца была соответственно 42,8 и 27,3 %. Частота депрессий не зависела от этнической принадлежности респондентов, но от национальности зависела коморбидность депрессии с другими психическими расстройствами. У удмуртов (мужчин и женщин) коморбидность депрессии была статистически значимой для социальных фобий. У русских женщин получена достоверная коморбидность депрессий с сомато-формным болевым расстройством. В отношении динамики депрессий также выявлены этнические различия [20]: рекуррентная и хроническая формы депрессии значительно чаще выявлялись среди представителей удмуртской национальности, у русских преобладал единичный депрессивный эпизод. По результатам этого же исследования были выявлены достоверные различия в таком социально-психологическом феномене, как уровень коллективизма (зависимость от группы): у удмуртов этот показатель оказался выше, чем у русских [6]. Следствием высокого уровня коллективизма у удмуртов является их большая, чем у русских, зависимость и чувствительность к воздействию различных социально-психологических факторов, в том числе негативных. К негативным факторам можно отнести дезинтеграцию традиционных взаимосвязей у удмуртов: общинных, религиозных, семейных, языковых.
В 1996—1999 гг. В. Ю. Кочуровым, Ю. В. Ковалевым [3—5] проводилось исследование факторов риска, особенностей клиники и дина- мики депрессивных расстройств у представителей удмуртской и русской национальностей в двух психиатрических стационарах Удмуртии (в городах Ижевске и Глазове). Всего было обследовано 162 взрослых пациента, в том числе 88 удмуртов и 74 русских, страдающих депрессиями. Были получены следующие результаты. У больных удмуртской национальности наибольшее значение при возникновении депрессии имели психогенные факторы, среди которых преобладали конфликты в семейнобытовой сфере. Формировались вялые, неглубокие депрессивные расстройства невротического и субпсихотического уровней. У больных русской национальности наибольшее значение имели эндогенные факторы: депрессии в целом отличались большей глубиной, отчетливой сезонностью, склонностью к рецидивированию.
Целью настоящего исследования было продолжение изучения этнокультуральных особенностей депрессий в селе и сравнение полученных данных с результатами предыдущих исследований.
Материал и методы . Исследование выполнено в Удмуртской Республике в 2010 г. (январь-март). Население Удмуртии составляет 1,6 млн человек, 30,3 % из них проживают в сельской местности. Национальный состав сельского населения: 53,9 % – удмурты, 39,4 % – русские, 3,4 % – татары и 3,3 % – представители других национальностей (данные Удмурт-стата, Ижевск, 2005).
Для исследования был выбран типичный по демографическим характеристикам сельский населенный пункт с численностью населения 1345 человек и национальным составом, представленным следующим образом: 55 % – удмурты, 41 % – русские и 4 % – другие. Группа исследуемых была составлена при помощи метода систематической случайной выборки. В группу вошёл каждый третий взрослый житель в возрасте от 18 до 59 лет. Всего было выбрано 330 человек. 25 мужчин и 12 женщин по разным причинам отказались принять участие в исследовании. В итоге 293 человека приняли участие в исследовании, включая 133 (45,4 %) мужчины и 160 (54,6 %) женщин. Национальный состав группы: 106 (36,2 %) – русские, 153 (52,2 %) – удмурты и 34 (11,6 %) – другие. Средний возраст мужчин и женщин составил соответственно 38,5 и 37,3 года.
Основным методом был клинико-психопатологический. Использовались диагностические критерии, принятые в действующей Международной классификации болезней, травм и причин смерти 10-го пересмотра. Диагностический опрос проводил автор статьи. На каждого респондента заполнялась карта, включающая психиатрический диагноз, социодемографические данные (национальность, пол, возраст, семей- ное положение, образование и профессия), сведения о среднем ежемесячном денежном доходе на одного члена семьи, наличие соматических болезней, данные о психологическом климате в семье.
В отношении респондентов соблюдался принцип добровольности участия в исследовании, пациенты были информированы о праве отказа от сотрудничества. В случае согласия участникам исследования была гарантирована полная анонимность. Для анализа данных использовалась компьютерная программа «Statisti-ca 5.0» Применялись следующие тесты: t-тест для сравнения средних величин (среднемесячный денежный доход, средний возраст и др.), тест chi-square – для оценки качественных характеристик (пол, национальность, социальный статус и др.). Программа «pi Info, Version 6» [10] использовалась для анализа коморбидности.
Результаты . Распространённость депрессий в течение жизни и последнего месяца в выборке составила соответственно 35,5 % (104
случая из 293) и 25,6 % (74 случая). Не было выявлено достоверной разницы в частоте депрессий между русскими и удмуртами: 24,5 % – среди русских и 26,1 % – среди удмуртов (р<0,05). По нозологической структуре наиболее частым текущим расстройством была реакция адаптации с депрессивным компонентом (40,5 %), далее в порядке убывания были зафиксированы: рекуррентное депрессивное расстройство (18,9 %), дистимия (17,6 %), депрессивный эпизод (16,2 %) и органическая депрессия (6,8 %). Нозологическая структура депрессий среди русских и удмуртов в целом отражала структуру диагнозов во всей выборке (табл. 1). Тем не менее были выявлены некоторые диагностические различия между этническими группами (тенденция: р>0,05): у русских чаще, чем у удмуртов, диагностировались депрессивные эпизоды (19,2 vs. 15,0 %) и рекуррентное депрессивное расстройство (23,1 vs. 20,0 %). У удмуртов чаще, чем у русских, выявлялись дистимии (20,0 vs. 15,4 %) и расстройства адаптации с депрессивным компонентом (40,0 vs. 34,6 %) (табл. 1).
Таблица 1 Структура депрессивных расстройств (в течение последнего месяца) по критериям МКБ-10 (%)
|
Диагноз |
Всего (n=74) |
Русские (n=26) |
Удмурты (n=40) |
|
Депрессивный эпизод |
16,2 |
19,2 |
15,0 |
|
Рекуррентное депрессивное расстройство |
18,9 |
23,1 |
20,0 |
|
Дистимия |
17,6 |
15,4 |
20,0 |
|
Реакция адаптации с депрессивным компонентом |
40,5 |
34,6 |
40,0 |
|
Органическая депрессия |
6,8 |
7,7 |
5,0 |
По синдромальной структуре в выборке преобладала астеническая депрессия – 28,4 %
(табл. 2), в большинстве случаев она встречалась в рамках депрессивной реакции. Реже других форм диагностировалась депрессия дисфорическая (10,8 %).
Таблица 2
Синдромальная структура депрессий (%)
|
Депрессия |
Всего (n=74) |
Русские (n=26) |
Удмурты (n=40) |
|
Астеническая |
28,4 |
15,4 |
37,5 |
|
Тревожная |
16,2 |
23,1 |
7,5 |
|
Истерическая |
12,2 |
11,5 |
12,5 |
|
Тоскливая |
14,9 |
19,2 |
12,5 |
|
Ипохондрическая |
17,6 |
19,2 |
17,5 |
|
Дисфорическая |
10,8 |
11,5 |
12,5 |
Были выявлены отличия в синдромальной структуре депрессий (тенденция: р>0,05): у русских по сравнению с удмуртами чаще встречалась тревожная (23,1 % vs. 7,5 %) и тоскливая (19,2 % vs. 12,5 %, р<0,05) депрессия, а у удмуртов – астеническая (37,5 % vs. 15,4 %). Особенности нозологической и синдромальной структуры депрессий в выборке позволяют сделать вывод о большей предрасположенности у русских, по сравнению с удмуртами, к эндогенным депрессиям (депрессивный эпизод и рекуррентная депрессия). Но в связи с тем, что количество наблюдений было недостаточным для анализа диагностических и синдромологических особенностей в этнических подгруппах, мы можем говорить лишь о тенденции.
Получены достоверные этнокультуральные различия в факторах, с которыми респонденты связывали начало психогенной депрессии: удмурты к основной причине относили плохие отношения в семье (чаще всего пьянство мужа) (51,0 % – у удмуртов, 26,2 % – у русских). У русских – проблемы на работе и финансовые затруднения (19,1 % – у русских, 2,0 % – у удмуртов). Более половины респондентов с текущей депрессией (55,1 %) проинформировали об имеющемся хроническом соматическом заболевании (преобладали болезни органов кровообращения и пищеварения). 57,5 % удмуртов с текущей депрессией сообщили об имеющемся хроническом соматическом заболевании, у депрессивных русских о хроническом соматическом заболевании сообщили 46,9 % респондентов (разница достоверная, р<0,05).
В выборке диагностированы другие психические расстройства: органические психические расстройства – 57,3 % (органическая астения, органическое расстройство личности, когнитивное расстройство), алкогольная зависимость – 29,9 %, табачная зависимость – 48,7 %, социальные фобии – 31,3 %, другие тревожные расстройства – 4,5 %. Коморбидность депрессии с другими психическими расстройствами была статистически достоверной для социальных фобий (odds ratio 1,45; 95 % CI=1,71—2,98) и органических психических расстройств (odds ratio 2,67; 95 % CI=1,54—4,56). Учитывая этно- культуральный фактор, статистически значимая коморбидность между депрессией и социальными фобиями выявлена только у удмуртов (у 42,3 % депрессивных удмуртов социальные фобии, odds ratio 2,05, 95 % CI=1,17—3,87). Ко-морбидность депрессии с органическими психическими расстройствами была достоверной как у удмуртов, так и русских.
К другим факторам депрессии в выборке относились женский пол, социальный статус пенсионеров, инвалидов или безработных, семейное положение разведенных или вдовых, более высокое образование, старший возраст и низкий материальный доход.
Обсуждение . Результаты настоящего исследования подтверждают данные, полученные в нашем предыдущем исследовании в сельской Удмуртии в 1995 г. [19]: распространенность депрессий в двух этнических группах не отличалась. В обоих исследованиях депрессии были достоверно коморбидными с социальными фобиями у представителей удмуртской национальности. Ранее [19] мы отмечали, что в большинстве случаев социальные фобии начинались в возрасте 7 лет – возраст начала обучения в школе. По-видимому, обучение в школе связано с появлением у части удмуртов адаптивных проблем, что совместно с культуральной особенностью (застенчивостью) приводит к развитию социальных фобий. Как говорили сами респонденты, трудности были связаны с началом интенсивного общения в школе на русском языке: у многих сельских жителей разговорным языком в семье и в дошкольном учреждении был удмуртский язык. В. Ю. Кочуров, Ю. В. Ковалев [4] также указывают на наличие психодезадаптационных эпизодов в детстве у удмуртов, госпитализированных по поводу депрессии.
У удмуртов доминировали психогенные депрессии: дистимии и расстройства адаптации с депрессивным компонентом. По синдромаль-ной структуре преобладала астеническая депрессия. К основной причине депрессии удмурты относили плохие отношения в семье (чаще всего пьянство мужа). У русских, также как и у удмуртов, чаще диагностировалась психогенная депрессия, преобладающими причинами которой были проблемы на работе и финансовые затруднения. Дополнительно у русских была выявлена предрасположенность к более частым, чем у удмуртов, депрессиям эндогенной природы: депрессивным эпизодам и рекуррентному депрессивному расстройству. По эт-нокультуральным особенностям факторов риска и клинике депрессий наши данные были аналогичны результатам исследования депрессий в стационаре [3—5]. Очевидно, что госпитализированные пациенты страдали более тяжелыми депрессиями, чем представители общей популяции, и выявляли более очерченные синдромальные формы болезни. У госпитализированных больных удмуртской национальности наибольшее значение при возникновении депрессии имели психогенные факторы, среди которых преобладали конфликты в семейнобытовой сфере. У депрессивных больных русской национальности наибольшее значение имели эндогенные факторы [3—5].
Обращаемость за специализированной помощью в нашей выборке была крайне низкая – 2,9 %. Среди госпитализированных депрессивных больных в исследовании В. Ю. Кочурова, Ю. В. Ковалева [3] показано, что русские больные, по сравнению с удмуртами, более часто состояли под диспансерным наблюдением. Исследователи высказывают предположение о том, что удмурты с субклиническими проявлениями депрессий, несмотря на их стойкость и продолжительность, в большинстве своем не воспринимали колебания настроения как болезненное состояние и редко своевременно обращались за психиатрической помощью. Низкая обращаемость за специализированной помощью по поводу депрессий характерна и для других стран: по данным Zung [25], к специалистам обращается лишь 1,2 % пациентов с клиническими формами депрессий.
По мнению Wells et al. [24], большинство депрессивных респондентов не осознают или сомневаются в необходимости профессиональной помощи. Другой причиной редкой обращаемости может быть высокая коморбидность депрессий с социальными фобиями, при которых характерно избегание социальных ситуаций, в том числе посещение больницы. Не менее важной проблемой является низкая выявляемость депрессий врачами общего профиля [11, 13, 15, 22, 23]. При отсутствии лечения или неадекватной терапии депрессии имеют более неблагоприятный прогноз, включая хроническое течение, повышение резистентности к проводимой терапии, снижение физической и социальной активности, увеличение риска инвалидности [9, 12, 17], высокий уровень самоубийства и общей смертности [14, 16, 18].
Таким образом, выявлены некоторые особенности факторов риска и клинической картины депрессий у представителей русской и удмуртской национальностей, что представляет интерес для определения групп риска по депрессивным расстройствам и разработки дифференцированных профилактических и терапевтических подходов. Для представителей обеих национальностей рекомендуется обучение основам психопрофилактики. Важной задачей является профилактика коморбидной хронической соматической патологии и связанного с ней психоорганического синдрома. Для лиц удмуртской национальности дополнительными рекомендациями могут быть семейная психоте- рапия, профилактика социальных фобий (у мужчин и женщин) и злоупотребления алкоголем (у мужчин). С целью оптимизации диагностики и терапии депрессий у жителей села исследователями указывается на необходимость более тесного сотрудничества между семейными врачами и психиатрами. Интеграция психиатрической службы в систему первичной медицинской помощи является одной из ведущих проблем в отечественной и в зарубежной психиатрии [1, 21].