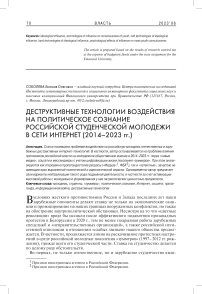Деструктивные технологии воздействия на политическое сознание российской студенческой молодежи в сети Интернет (2014-2023 гг.)
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме воздействия на российскую молодежь отечественных и зарубежных деструктивных интернет-технологий. В частности, автор останавливается на проблеме влияния противников российской власти на молодежное общественное мнение в 2014-2023 гг. через «новые медиа», соцсети и мессенджеры с учетом цифровизации жизни поколения «зуммеров». При этом анализируются как откровенно пропагандистские ресурсы («Медуза»1, ФБК2), так и «латентные», зачастую не имеющие ярко выраженной политической и идеологической окраски. Одновременно автор предлагает свои варианты нейтрализации такого рода подрывной деятельности, в частности за счет активизации массовой работы с молодежью и формирования у нее патриотических ценностных приоритетов.
Молодежь, студенты, «зуммеры», политическое сознание, интернет, соцсети, пропаганда, информационная война, деструктивные технологии
Короткий адрес: https://sciup.org/170200705
IDR: 170200705 | DOI: 10.31171/vlast.v31i6.9856
Текст научной статьи Деструктивные технологии воздействия на политическое сознание российской студенческой молодежи в сети Интернет (2014-2023 гг.)
В условиях жесткого противостояния России и Запада последних лет наши зарубежные оппоненты делают ставку не только на экономические санкции и провоцирование на наших границах вооруженных конфликтов, но также на обострение внутриполитической обстановки. Несмотря на то что «цветные революции» вроде бы иссякли после эффективного подавления прозападных протестов в Белоруссии в 2020 г., тем не менее подрывная работа зарубежных спецслужб и «неправительственных организаций», а также российской несистемной оппозиции в отношении «слабых звеньев» нашего общества продолжается. В частности, продолжается линия на раскачивание протестных настроений в среде российской молодежи поколения «зуммеров» (1997–2012 гг. рождения), прежде всего его студенческой части. Ставка на студенчество делается по целому ряду обстоятельств.
Во-первых, не только отечественное, но и зарубежное студенчество явля- ется потенциально протестной средой. Традиционный в мировой практике конфликт «отцов и детей» здесь ощущается гораздо острее, чем у рабочей молодежи. Обладая определенными способностями и знаниями, студенческая молодежь более восприимчива к недостаткам общественного бытия, более эмоционально переживает «несправедливости» и «нарушения свободы», демонстрирует большую протестную активность.
Во-вторых, осознавая себя «авангардом молодежи», студенчество склонно нести свое мировосприятие в «широкие народные массы», организовывать своих сверстников, участвовать в акциях прямого действия (вплоть до массовых беспорядков).
В-третьих, в современном мире (в т.ч. в современном российском обществе) наблюдается тенденция к межпоколенческим разрывам [Шатилов 2019]. Дело в том, что ряд моментов современности (разрушение традиционной семьи, высокий темп жизни, культ потребления и гедонизма, женская эмансипация, мужская инфантилизация и пр.) ведут к обособлению поколений и их взаимному неприятию друг друга. Все это негативно влияет на преемственность национальных ценностей и социализацию молодежи. При таких разрывах, которые наблюдаются и в нашем социуме, внутренние и внешние противники российской власти предпринимают активные попытки вбить клин между поколениями X , Y , Z , спровоцировать их на взаимные обвинения в эйджизме.
В-четвертых, с конца нулевых годов в Российской Федерации практически отсутствует осмысленная массовая молодежная политика. После 2008 г., когда стало ясно, что нашей стране удалось отразить удар «цветной революции», молодежная политика была переформатирована под подготовку «кадрового управленческого резерва», деидеологизирована и забюрократизирована. Вместо провластных молодежных лидеров политического плана система стала готовить «технократов» и «эффективных менеджеров» по типовым схемам и рекомендациям, заимствованным на Западе. Такая тенденция наблюдалась даже в период 2014–2022 гг., когда уже стало ясно, что РФ вступила в глобальное противоборство с «золотым миллиардом» и ей потребуются не только управленцы, но и политические комиссары. Более того, потребуются массовая молодежная политика и новые молодежные авторитеты. Однако вплоть до СВО политическая система предпочитала воспроизводить «технократическую» молодежь, которая даже в случае обладания высокими профессиональными качествами далеко не всегда была ориентирована на патриотизм и лояльность.
Все это привело к тому, что идеологическую работу в массах российской молодежи взяли на себя зарубежные спецслужбы и связанные с ними фонды и НКО, а также радикальная российская оппозиция, которая в 2014–2022 гг. достаточно успешно перехватывала молодежную повестку у власти, соответствующим образом настраивая молодежь, особенно студенческую.
Помимо непосредственной организационной работы в рамках легальных и нелегальных организаций антивластного толка, противники российского руководства активно задействовали Интернет, распространяя свои материалы и вербуя сторонников через соцсети и даже мессенджеры. Дело в том, что в последние 10 лет в России резко возросла цифровизация жизни граждан и их виртуальная грамотность. Так, например, по данным спецдоклада We Are Social и Hootsuite «Digital 2020», мобильным телефоном пользовались 168% населения России (имеется в виду наличие у граждан более 1 мобильного средства коммуникации), в Интернете присутствовали 81%, были активно вовлечены в социальные медиа почти 50% россиян1. Более того, темпы информатизации населения нашей страны постоянно растут. Уже в сентябре 2022 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил СМИ, что число интернет-пользова-телей в РФ перевалило за 90% (то есть, за 2,5 года прибавка составила 9%)2. При этом доля пользователей среди молодежи вообще приблизилась к 100%3. Примечательно, что основной целью посещения глобальной сети большинство российских пользователей называют поиск необходимой информации – 84,3% пользователей из России в возрасте от 16 до 64 лет выходят в онлайн именно с такой целью. На втором месте – общение с родственниками и друзьями (66,4%), а за новостями в сети следят 66,1% жителей России4. При этом молодежь текущую информацию о политических и социально-экономических процессах черпает преимущественно из Интернета – уже в 2019 г. процент тех, кто знакомился с новостями в «новых медиа» достигал 65% [Руденкин 2019: 22], сейчас этот показатель существенно выше. При этом такой интерес к информации в Интернете обусловлен не только всеобщей диджитализацией молодежи и ее интересом к новинкам средств коммуникации, но также и бытующим в ее среде представлением, что «независимая» интернет-информация является более достоверной, нежели в традиционных СМИ.
Такое погружение в интернет-пространство российской молодежи, особенно ее студенческой части, не осталось без внимания либеральной оппозиции и зарубежных спецслужб. Поэтому с 2014 г. наши противники предпринимают попытки охватить своей информационно-пропагандистской работой практически все сегменты молодежи, причем на различных уровнях [Пырма 2017]. Так, например, массово создаются, казалось бы, нейтральные группы в соцсетях, имеющие региональный характер и «типовые» названия, вроде «подслушано…», «типичный…», «сплетница…», «настоящая…» и пр. Задача этих групп за счет размещения молодежного контента и обсуждения актуальных для молодежи тем сконцентрировать вокруг себя местных «зуммеров» и начать их мягкую обработку в оппозиционном ключе. Причем делать это максимально незаметно, поскольку «выйти из тени» такие группы должны в «час Х », т.е. в случае чрезвычайных внутри- или внешнеполитических событий. Так было, например, на Украине перед Майданом 2013–2014 гг., когда аналогичные группы «выстрелили» именно в момент пика протестов и стали опорными точками для целеполагания и управления молодежными массами на местах. Кстати, одновременно была создана «сетка» подобных сообществ с привязкой к тем или иных высшим учебным заведениям Российской Федерации.
Также работа с молодежью в последние годы нередко ведется через различные «неполитические» группы, ориентированные на основные культурные и бытовые запросы «зуммеров». Для девушек – это группы, посвященные моде, «лакшери», путешествиям, феминизму и «психологии чувств», для юношей – группы спорта, автомобилей, финансов и др. Используются и унисекс-группы, предлагающие, в частности, различные «тренинги личностного роста», обзоры и обсуждение современного кино, музыки, развлечений.
Однако наиболее жесткий информационный прессинг в отношении интел- лектуальной части молодежи велся через откровенно антиправительственные ресурсы вроде «Медузы»1 и групп ФБК2 Алексея Навального [Веретельник. 2021: 149]. Какие основные темы «разгоняли» данные виртуальные сообщества?
Первая тема – борьба с коррупцией. Здесь оппоненты российской власти утрировали и гиперболизировали злоупотребления в среде чиновничества, стремясь огульно распространить отдельные факты коррупции на всю отечественную политическую систему. Более того, в соответствии с целенаправленно распространяемыми фейками и недостоверными рейтингами западных организаций, например Transparency International (которую подозревают в связях с ЦРУ и MI -6), утверждалось, что в Российской Федерации наблюдается практически повальное взяточничество, злоупотребление служебным положением, местничество и прочие злоупотребления. Якобы это обусловило ее 137-е место среди 180 оцениваемых стран мира в 2022 г.3 Однако независимые оценки дают совсем другие результаты. Так, например, в 2016 г. британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young провела свой опрос по ведущим странам мира и выяснила, что по степени коррупции Россия находится в середине рейтинга (30–32-е места), причем на одной «ступеньке» с ней расположились США и Польша4. Тем не менее клевета относительно «всепроникающей российской коррупции» имела определенный эффект в плане воздействия на студенческую молодежь, в среде которой сильны идеалы весьма произвольно понимаемых справедливости и демократии.
Вторая тема – «ограничение свободы». Здесь воздействие на студенческую молодежь было еще более существенным. В ход были пущены пропагандистские клише о якобы исторически присущих России деспотизме и тирании, о «попрании демократии», об «электоральных нарушениях», о «жестоком разгоне акций протеста». В качестве альтернативы приводились страны Запада, где царят принципы свободы, прав человека, правового государства. И хотя при сравнительном анализе выясняется, что западные «демократические» ценности – миф и «потемкинские деревни»5, однако с учетом недостаточности знаний и критического мышления у молодого поколения данная оппозиционная пропаганда оказалась достаточно действенной – не имеющие в силу возраста серьезных социальных «привязок», жизненного опыта и чувства ответственности молодые люди склонны абсолютизировать идеалы «свободы», эмансипации и отказа от традиционных социальных практик и норм.
Третья основная деструктивная тема, развиваемая указанными «новыми медиа», возникла еще в 2014 г. на фоне реинтеграции Крыма и была форсирована в 2022 г. после начала специальной военной операции, – это тема «имперскости» и «агрессивности» России и СССР. Цель такой пропаганды достаточно очевидна – с учетом традиционного для студенчества позитивного и «гуманистического» настроя дискредитировать в глазах учащихся вузов политику руководства страны, спровоцировать создание в молодежной среде «пятой колонны», сформировать у молодежи чувство «политической вины», сделать «тыл» враждебным «фронту» [Грабельников 2022].
Все эти темы продолжают развиваться в оппозиционных и западных пабли- ках и поныне. При этом их воздействие в последние месяцы стало менее ощутимым. Во-первых, власти РФ заблокировали наиболее подрывные сайты и группы в соцсетях (хотя через VPN-технологии доступ к ним при желании все равно обеспечивается). Во-вторых, в отношении ресурсов, размещающих недостоверную и фейковую информацию на зарубежные средства, широко распространяется статус «иностранного агента», что отчасти сдерживает их радикализм и деструктивность за счет самоцензуры. В-третьих, российские власти в условиях СВО развернули масштабную контрпропаганду и разъяснительную работу среди молодежи, в т.ч. ее студенческой части, что также дало свои позитивные плоды.
Однако можно предложить еще несколько вариантов работы с молодежью в «новых медиа» с целью «переформатирования» ее политических воззрений в направлении патриотизма:
– популяризировать через соцсети неформальное волонтерское патриотическое и военно-патриотическое движение с учетом тяги студенческой молодежи к общественной работе и самореализации;
– раскрутить в СМИ, в т.ч. электронных, новых молодежных лидеров общественного мнения (ЛОМов).
– отказаться от директивности, «казенщины» и канцелярского языка в общении с молодежью в пользу доверительного диалога и разъяснения;
– провести тщательную зачистку (может быть, с использованием ИИ) в соцсетях враждебных ботов и троллей, зачастую осаждающих и парализующих официальные и патриотические паблики;
– мягко вовлекать студенчество в повестку СВО через косвенные темы и практики (выступления перед ранеными, сбор гуманитарной помощи, изучение основ гражданской обороны по принципу si vis pacem, para bellum («хочешь мира – готовься к войне») и др.
Список литературы Деструктивные технологии воздействия на политическое сознание российской студенческой молодежи в сети Интернет (2014-2023 гг.)
- Веретельник И.А. 2021. Функционирование СМИ-иноагентов в современной медиасреде России (на примере издания "Медуза" и телеканала "Дождь"). - Наследие Ю.И. Селезнева и актуальные проблемы журналистики, критики, литературоведения, истории: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар: Изд-во КубГУ. С. 148-153. EDN: TFRVZG
- Грабельников А.А. 2022. Деструктивные медиа в эпоху цифровизации. - Журналистика в эпоху цифровых трансформаций: ценности и практики: сборник материалов Х Международной научно-практической конференции. C. 8-19. EDN: JOOVOJ
- Пырма Р.В. 2017. Восстание поколения Z: новые политические радикалы. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 7. № 2(26). С. 43-50. EDN: YLYKOB
- Руденкин Д.В. 2019. Интернет-зависимость российской молодежи: миф или реальность? - Социум и власть. № 4(78). С. 16-28. EDN: NTIAYA
- Шатилов А.Б. 2019. Поколенческие разрывы как фактор роста конфликтности в современном российском обществе. - Власть. Т. 27. № 4. С. 26-32. EDN: BIKDAP