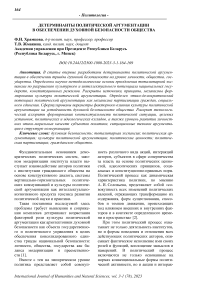Детерминанты политической аргументации в обеспечении духовной безопасности общества
Автор: Храмцова Ф.И., Жмакина Т.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 3-1 (78), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые разработаны детерминанты политической аргументации в обеспечении триады духовной безопасности на уровне личности, общества, государства. Определены научно-методологические основы преодоления тоталитарной экспансии по разрушению культурного и интеллектуального потенциала национальных государств, конституционных режимов. Раскрыты источники, принципы, механизмы формирования культуры политической аргументации. Определен этико-демократический потенциал политической аргументации как механизма партисипации граждан, социального единения. Сформулированы параметры факторного влияния культуры политической аргументации на устойчивость духовной безопасности общества. Раскрыт технологический алгоритм формирования контекстуальности политической ситуации, целевых установок, политических и идеологических взглядов, а также уровень развития личностных этико-моральных качеств субъектов политики, ситуационные техники аргументации в структуре коммуникации.
Духовная безопасность, тоталитарная экспансия, политическая аргументация, культура политической аргументации, политические ценности, политическая партисипация, гражданское общество
Короткий адрес: https://sciup.org/170198187
IDR: 170198187 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-3-1-164-169
Текст научной статьи Детерминанты политической аргументации в обеспечении духовной безопасности общества
Фундаментальным основанием демократических политических систем, законом модернизации института власти выступает взаимодействие акторов политики с институтами гражданского общества на основе конструктивного диалога, системы вертикально-горизонтальных политических коммуникаций и культуры политической аргументации как интеллектуальнокогнитивного продукта генезиса развития политической науки и практики.
Такая постановка исследуемой здесь проблемы требует выявления и сопряжения комплекса детерминант возрастания факторной роли культуры политической аргументации как архитектоники духовной безопасности как объекта государственного и политического управления в целях обеспечения консолидированного единства триады национальной безопасности: личности, общества, государства как баланса модернизации и преемственности [1].
Вместе с тем на эмпирическом уровне политика представляет собой совокуп- ность различного вида акций, интеракций акторов, субъектов в сфере соперничества за власть на основе политических ценностей, идеологических принципов, социальных и конституционно-правовых норм. Политический процесс как динамическая характеристика политики, по мнению А. И. Соловьева, представляет собой «совокупность всех изменений политических явлений, отражающих трансформацию их содержания, форм существования, способов и темпов движения, происходящих под влиянием внешних и внутренних факторов и в контексте определенного времени и пространства» [2].
При этом политический процесс охватывает не только деятельность институтов, но и формы поведения и отношения всех действующих политических акторов, описывает фактическое исполнение ими своих ролей и функций, воплощение замыслов и намерений. В политический процесс включаются не только основанные на нормах конвенциональные формы политической активности, но и акции и интерак- ции, которые выходят за рамки принятых политических правил, демонстрирующие нарушение гражданами ролевых функций, превышение государственными служащими должностных и служебных полномочий, нарушение оппозиционными акторами принципов и норм взаимодействия с властью, выход деятельности за рамки закона, криминальные действия политиков в сфере власти и т. д.
Политика прежде всего связана с понятиями «власть» и «государство». Взаимосвязь и соотношение этих трех понятий выстраивается следующим образом: политика - борьба за власть, управление государством; государство - главный институт политики; власть - возможность управления другими людьми, которое в политике осуществляется от имени и при помощи государства. Особенности реализации политики как борьбы за власть определяются особенностями модели политики. Исходя из системных качеств организации политической власти, различают демократический политический процесс, сочетающий различные формы прямого и представительного народовластия, и недемократический политический процесс, определяемый нахождением у власти теократических или военных группировок, авторитарных лидеров, монархов, партий того или иного типа. Демократический политический режим функционирует благодаря наличию политических условий, к которым относятся развитое гражданское общество, преемственность политической власти, плюрализм.
Бесспорно, эффективность политического процесса выше в тех политических моделях, которые «интенционально ориентированы на установление доверия и основаны на принципах демократии» [3, с. 39]. Демократизация политической сферы направлена на достижение транспарентности, открытости и подотчетности деятельности политической и государственной сфер, установление и укрепление доверия к власти, интенсификацию степени участия населения в политических процессах. Все это создает атмосферу понимания, политической умеренности и доверия, на основании чего возрастает чувство социального благополучия, единства на основе духовно-нравственных ценностей. Такой социальный и политический климат формирует у граждан более активную политическую позицию, параметром которой выступает политическая партисипация (по Г. Алмонду).
В этой связи актуальны выводы авторитетов политической науки об этикоправовых закономерностях развития демократии власти и общества, фундаментальной роли политической культуры и культуры политической аргументации. В частности, в рамках общей классической теории демократии, протекционистская концепция (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Дж. Мэдисон, Т. Пейн, Т. Джефферсон, И. Бентам, Дж. Милль и др.) позиционирует базовые принципы конституционной демократии. Инструментами защиты личных интересов, прав и свобод от тирании власти и беззакония в данной концепции выступают принцип равноправия или всеобщего равенства перед законом и судом, всеобщее избира- тельное право.
Ж.-Ж. Руссо и Дж. С. Милль в рамках развивающей концепции демократии подчеркивают просветительскую и образова- тельную роль демократии, направленную на просвещение и саморазвитие свободных граждан. Ж.-Ж. Руссо интерпретирует понятие общественного договора не как соглашение между электоратом и властью, а как соглашение, реализуемое на горизон- тальном уровне между равноправными членами общества о приемлемом методе управления [4].
Марксистская теория (К. Маркс, Ф. Энгельс) рассматривает развитие общества с позиций экономической эксплуатации, классовой войны и неотвратимости пролетарской революции.
В середине XX в. в результате пересмотра идей классической либеральной теории сформирована элитарная концепция, именуемая также концепцией конку- рентного элитизма или соревнующихся лидеров. По мнению основоположника данной концепции Й. Шумпетера, «демо- кратия является одним из методов политического управления, реализуемым профес- сиональными политическими акторами, конкурирующими за голоса избирателей, а также представляет собой определенный тип институционального устройства для достижения законодательных и административных политических решений» [5]. Авторитетный элитист М. Вебер также акцентировал значимость личности политика, его профессиональных качеств и «этики ответственности» [6].
Для концепци полиархии Р. Даля [7] характерно наличие эффективно работающих политических институтов; честных, прозрачных и свободных политических выборов; политической конкуренции и политического участия; аргументации, свободы взглядов; права выдвижения кандидатуры на выборную должность; партийной системы, строительства; законодательно закрепленного права формирования общественных объединений и организаций; права на информирование альтернативными средствами информации и коммуникаций; права оппозиции опротестовывать принятые правительством решения и др. Фундаментальным обстоятельством существования полиархии является наличие динамичного, культурно однородного общества, представленного высокой процентной долей образованного городского населения с высоким уровнем достатка, которому свойственны плюрализм мнений и приверженность либеральным ценностям.
В работах Дж. Сартори [8] разработана модель элитистской теории, обоснованы понятия «вертикальной» демократии и «селективной» полиархии как меритократии обновления политических систем, эффективное развитие которых напрямую зависит от квалификации элиты и их этики.
Для многосоставных обществ, характеризуемых религиозными, этническими, социальными противоречиями и конфликтами, возможность развиваться стабильно в демократическом направлении предоставляет модель консоциативной демократии А. Лейпхарта. Согласно мнению А. Лейпхарта, «механизм включения всех сегментов в процесс политического управления предполагает принцип пропорцио- нальности политического представительства, право меньшинств на вето, высокую степень автономности каждого сегмента, реализацию властных полномочий широкой коалицией лидеров, основанной на их сотрудничестве и взаимодействии» [9].
Вторая половина XX в. ознаменована распространением разных форм партиципаторной демократии (демократии участия, прямой демократии) (Б. Барбер, Н. Боббио, Т. Кронин, К. Б. Макферсон, К. Пейтман, Дж. Циммерман, др.), позиционирующей идеи народовластия, свободы, активной гражданской позиции, ответственности и самоуправления, а также формированием универсальной модели консолидированной демократии, основополагающими требованиями которой являются «передача реальной власти исключительно выборным субъектам политики, жесткий парламентский контроль над исполнительной властью, подлинно независимая судебная система, непредсказуемость результатов выборов заранее, реальная возможность прихода оппозиции к власти, гарантии прав меньшинств, развитое гражданское общество, свобода печати и неограниченный доступ к альтернативным источникам информации, политическое равенство граждан, полное соблюдение прав и свобод человека» [10, с. 22]. В силу пересмотра соотношения гражданственности и индивидуализации растет востребованность тех моделей демократии, которые расширяют возможности политической партисипации граждан.
«Делиберативный поворот», произошедший в конце 1980-х – начале 1990х гг., стал своеобразной реакцией на кризис демократических идей и рост недоверия к политике в обществе в целом. Ш. Муфф называет поворот к теме дели-берации «новой парадигмой демократии», подчеркивая, что «идея о том, что при демократической форме правления политические решения должны приниматься в ходе обсуждения их свободными и равными гражданами, сопутствовала демократии с самого ее рождения в Афинах пятого века до нашей эры» [11, с. 180]. Суть дели-беративного поворота состояла в том, что демократия есть процесс публичной ком- муникации между гражданами относительно касающихся политических решений. Институциональный посыл демократии направлен на устранение противоречий и достижение консенсуса в порядке обсуждения.
Культура политической аргументации как мягкий и ненасильственный способ устранения конфликта является атрибутом гражданской демократии, диалогом между властью и обществом на основе политических ценностей, традиционных нравственных устоев общества, духовных основ культуры народа. Тем самым преодолевается разрыв между властью и обществом, достигается гражданское согласие, духовная идентичность, социальное единение в преодолении тоталитарной экспансии извне, угроз национальной безопасности. В основе аргументативных практик лежит конфликт мнений или спорный вопрос, возникающий между акторами публичного управления. Функция аргументации заключается в разрешении конфликта посредством культуры убеждения, в результате которого оппонент может или пойти на уступки, или сменить добровольно свою позицию под давлением весомых аргументов. Успешность дискурсивного согласия в форме консенсуса или компромисса соизмеряется способностью обеспечить изменение позиции оппонента на основе персуазивации, демонстрации, конфирмации и экспликации.
Политические концепты как единицы сознания (ментальные единицы) являются элементами национальной идентичности, политического сознания, формируют политическую концептосферу, базисом которой является духовная культура в синтезе с национально-политической культурой. В концептосферу входят также ценностные, культурно-исторические, образные и эмоциональные компоненты групп, сообществ, индивидов.
В этой связи актуальна методологическая триада развития культуры политической аргументации как механизма духовной идентичности и базиса духовной безопасности, составными компонентами которой являются: историко-патриотическая политика, научно-образовательная поли- тика с воспитательно-идеологическим контентом, молодежная политика на основе традиционных нравственных, семейных ценностей, молодежного участия.
В политической коммуникации важен процесс аргументирования на установление согласия, который осуществляется с учетом существующей у людей приверженности собственным когнитивным структурам, их согласованности. Выстраивая аргументацию в рамках существующей у реципиента онтологии, аргументатор эксплуатирует рациональные процессы согласованности и старается действовать так, чтобы объект аргументации самостоятельно пришел к нужному целевому убеждению. Процедура достижения согласия подразумевает взаимное определение участниками занимаемых позиций и преследуемых интересов, их экспертизу на соответствие рациональности. Важным моментом процедуры также является способность участников по диалогу понять позицию оппонента.
Основополагающими принципами достижения взаимопонимания и согласия в теории политической коммуникации Ю. Хабермаса выступают истинность , правдивость и правильность [12, p. 23]. Их единство раскрывается в идеальной модели диалоговой коммуникации его теории коммуникативного действия. В частности, в концепции «идеальной речевой ситуации» автор выделяет три уровня предпосылок политической аргументации [12, c. 137], соблюдение правил которых позволяет устанавливать согласие: логико-семантический уровень предпосылок представлен правилом непротиворечения, правилом не менять смысл высказывания, др. [13, c. 137]; диалектический уровень процедур – правилом утверждать то, во что веришь, др. [12, c. 138]; риторический уровень – правилом открытости участия в дискуссии, правилом свободы выражения своих установок, желаний, потребностей, др. [13, c. 140].
Аргументативный консенсус достигается при условии принятия и соблюдения участниками принципов рациональности, этики и разумности, подразумевающей реализацию своих целей, согласование своих планов действия с мнением других участников коммуникации на основе общего определения прогнозируемой ситуации. Отказ, несоблюдение принципов культуры политической аргументации может стать барьером к установлению согласия и привести к срыву прогнозируемых проектов решений.
Список литературы Детерминанты политической аргументации в обеспечении духовной безопасности общества
- Храмцова, Ф.И. Трансформационно-опережающее государственное управление как фактор национальной безопасности / Ф.И. Храмцова // Проблемы управления. - 2022. -№ 1 (83). - С. 100-104.
- Соловьёв, А.И. Сообщественное управление: столкновение повесток как политический процесс / А.И. Соловьёв // Сотрудничество в публичной политике и управлении / под ред. Л.В. Сморгунова. - СПб.: СПбГУ, 2018. - С. 52-64.
- Жмакина, Т.В. Концепция политической аргументации Амстердамской школы: дис. ... канд. полит. наук. - Минск, 2022. - 197 с.
- Руссо, Ж.-Ж. Политические сочинения. - СПб.: Росток, 2013. - 640 с.
- Шумпетер, Й. Капитализм, социализм и демократия. - М.: Экономика, 1995. - 540 с.
- Вебер, М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990. - 808 с.
- Dahl, RA. On Democracy. - New Haven: Yale Univ. Press, 1998. - 217 p.
- Сартори, Дж. Вертикальная демократия / Дж. Сартори // Полис. Полит. исслед. -1993. - № 2. - С. 80-89.
- Лейпхарт, А. Многосоставные общества и демократические режимы / А. Лейпхарт // Полис. Полит. исслед. - 1992. - № 1-2. - С. 217-225.
- Латинская Америка: испытания демократии. Векторы политической модернизации: в 2 ч. / отв. ред. М.Л. Чумакова. - М.: ИЛА РАН, 2009. Ч. 1. 704 с.
- Муфф, Ш. К агонистической модели демократии / Ш. Муфф // ЛОГОС. - 2004. -№ 2 (42). - С. 180-197.
- Habermas, J. The Theory of Communicative Action. Volume 1. Reason and the rationalization of society; translation by Thomas McCarthy. - Boston: Beacon Press, 1984. - 465 р.
- Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие; пер. с нем. под ред. Д.В. Скляднева; послесл. Б.В. Маркова. - СПб.: Наука, 2001. - 380 с.