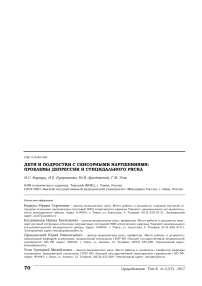Дети и подростки с сенсорными нарушениями: проблемы депрессии и суицидального риска
Автор: Карауш И.С., Куприянова И.Е., Дроздовский Ю.В., Усов Г.М.
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 2 (27) т.8, 2017 года.
Бесплатный доступ
Данные литературы о распространенности, характере депрессий и уровня суицидов у детей и подростков с сенсорными нарушениями немногочисленны и несистемны, касаются небольших по численности групп, и основаны на разных методологических подходах. Однако, учитывая, что даже доклинические проявления депрессии могут сопровождать ребёнка или подростка длительное время, оказывая разрушительное влияние на общение со сверстниками, обучение и другие жизненные сферы, необходимо выявлять ранние симптомы депрессии и суицидального поведения. Цель исследования: изучение уровня риска депрессии и суицидального риска у учащихся коррекционных школ с нарушениями слуха и зрения. Материалы. Методом сплошной выборки обследовано 368 учащихся 7-18 лет специализированных (коррекционных) школ-интернатов: 186 слабослышащих и глухих и 182 слабовидящих. Методы: клинический, психологический (шкала депрессии для детей М. Ковак, адаптированный опросник выявления суицидального риска), статистический. Результаты. Депрессивные расстройства выявлены у 3,5% детей в рамках расстройств адаптации и депрессивного эпизода легкой или средней степени. 20,8% имеют повышенный и 3,1% высокий уровень риска развития депрессии, без значимой разницы между группами. Значимые различия средних баллов учащихся с нарушениями слуха и зрения по критерию U Манна-Уитни выявлены по шкале D «Ангедония» (p=0,011). Уровень суицидального риска определялся у подростков 13-18 лет с помощью специально адаптированного опросника (64 слабовидящих и 65 подростков с нарушениями слуха). Слабовидящие подростки значимо чаще сообщали о наличии суицидальных мыслей (p=0,0002), снижения настроения (p=0,00001), чувства одиночества. Важную роль в возникновении конфликтных ситуаций детей с признаками суицидального поведения играют нарушенные семейные взаимоотношения. Средний уровень суицидального риска определен у 19,4%, высокий - у 6,9% подростков. Выводы. Выделенная группа нуждается в динамическом наблюдении, повторном клинико-психологическом обследовании и проведении превентивных мероприятий.
Слабослышащие и глухие дети, слабовидящие дети, депрессия, суицидальный риск
Короткий адрес: https://sciup.org/140219308
IDR: 140219308 | УДК: 616.89-008
Текст научной статьи Дети и подростки с сенсорными нарушениями: проблемы депрессии и суицидального риска
Категория «дети с ограниченными возможностями здоровья» объединяет разные когорты детей с нарушениями онтогенеза, имеющих свои клинические, социальные, психологические, социокультурные характеристики, изучение которых позволяет оптимизировать процессы реабилитации и интеграцию в общество [1-3]. Для детей и подростков с дефици-тарным типом дизонтогенеза, примером которого являются дефекты слуха и зрения, характерны проблемы функционирования на разных уровнях – здоровья, коммуникации и социализации [4, 5], повышение риска развития психопатологии [6], нарушения познавательной деятельности, интеллекта и социального развития [7-9], обусловленные трудностями взаимодействия с окружающей средой [10].
Данные о распространенности психических расстройств у этой категории пациентов немногочисленны и, нередко, противоречивы. Широкий диапазон показателей распространенности психической патологии у слабослышащих и глухих детей – от 15% до 60% [11] – можно объяснить трудностями взаимодействия с ними (специфика восприятия речи, дефицит коммуникативных навыков), отсутствием специалистов в области психического здоровья, владеющих специфическими языковыми средствами (жестовая, дактильная речь), а также отсутствием стандартизированных для этих групп психологических методов. Несмотря на то, что глухие имеют более высокий уровень распространённости психических расстройств в сравнении со слышащими, они сталкиваются с трудностями в доступе к службам охраны психического здоровья и социального обслуживания [12].
Данные литературы о распространенности, характере депрессий, самоповреждающих действиях и уровне суицидов у детей и подростков с сенсорными нарушениями немногочисленны и несистемны, касаются небольших по численности групп, основаны на разных методологических подходах. Так, по данным J. Fellinger с соавт. (2009), при исследовании учащихся с нарушениями слуха и нормальными показателями невербального интеллекта психические расстройства выявлены у 32,6%, среди которых депрессивные расстройства – у 7,4%, что выше, чем в целом по популяции [13. О высокой распространённости депрессии среди детей с нарушениями слуха и отсутствии связи между депрессией и степенью нарушения слуха свидетельствуют и данные других исследований [14, 15]. При этом дети, у которых использование устной речи является предпочтительным способом общения, сообщают о значимо меньшем количестве симптомов депрессии, чем дети, использующие язык жестов или сочетание жестовой и устной речи (исследование 83 детей 9-15 лет с потерей слуха не менее 40 дБ на лучше слышащее ухо) [16]. Также меньшее количество симптомов депрессии выявляется у детей, обучающихся в общеобразовательных школах, в сравнении со специальными. S.G. Koenes, J.F. Karshmer [15] отмечают значимо более высокую частоту выявления депрессий среди слепых подростков в сравнении со зрячими, без связи с демографическими характеристиками (сравнение 22 слепых от рождения подростков 12-18 лет с 29 зрячими того же возраста). По данным N. Bolat с соавт. [17], обследовавших 40 учащихся специализированной школы с врожденным полным нарушением зрения (средний возраст 12,82±1,17) и 40 нормально видящих подростков того же возраста, уровни депрессии и самооценки слепых подростков сопоставимы со зрячими при значительно более высоком уровне тревожности.
Получены данные о более высоком уровне предполагаемого риска суицидов среди глухих, чем среди контрольных групп [18]. По сравнению с нормально слышащими сверстниками, глухие дети и подростки 4-17 лет имеют более высокий уровень расстройств дефицита внимания и гиперактивности, поведения, аутистического спектра и биполярных расстройств; в 14% случаев – умеренно-серьезный риск суицидального поведения [19].
Недостаток исследований подтверждает перспективы в области определения стратегий предотвращения суицидов у людей с ограниченными интеллектуальными возможностями [20], в том числе, высказывающими суицидальные намерения. Мероприятия, проводимые в настоящее время, включают в себя обучение медицинского персонала, повышение доступности специалистов служб охраны психического здоровья для глухих людей [12]. В специальных образовательных учреждениях к стандартным мероприятиям, проводимым в отношении учащихся, высказывающих суицидальные намерения, относятся: сообщение родителям, наблюдение учащихся, ведение полной письменной документации, информирование руководителя, консультации психолога [21]. Только малая часть педагогов имеют конкретные представления о возможностях решения проблемы суицидального поведения у учащихся [12, 22]. Принятие превентивных антисуи-цидальных мер «на глазок», на основании внешних впечатлений – запрет подросткам пользование Интернетом, запугивание учителей, которые и без того зажаты грудой бюрократических обязанностей и т.д. – является неэффективным [23].
Таким образом, анализ литературы по проблемам суицидального поведения детей и подростков с сенсорными нарушениями позволяет выявить следующие важные аспекты: разрозненные данные по распространённости, клинической динамике депрессии и суицидального поведения, отсутствие универсальных скрининговых инструментов диагностики, проблемах применения традиционного вербального психопатологического обследования и психодиагностических методов.
Цель исследования: изучение уровня риска депрессии и суицидального риска у учащихся коррекционных школ с нарушениями слуха и зрения.
Материал исследования.
Методом сплошной выборки обследовано 368 учащихся 7-18 лет специализированных (коррекционных) школ-интернатов: 186 слабослышащих и глухих (100% имеют статус инвалида) и 182 слабовидящих (45% имеют статус инвалида); 227 мальчиков (61,7%) и 141 девочка (38,3%). Мальчики значимо (p=0,00001) преобладали в обеих изучаемых группах. Группой сравнения при изучении уровня суицидального риска случае была группа учащихся, обучающихся в общеобразовательной школе, сопоставимая по полу и возрасту, в количестве 60 человек.
В изучаемой выборке среди детей с нарушением зрения было примерно равное количество 7-12-летних и 13-18-летних, а среди детей с нарушениями слуха значимо преобладали учащиеся старшего возраста (χ²=7,27, d.f.=1, p=0,007) (табл. 1).
Таблица 1
Распределение детей и подростков с сенсорными нарушениями по возрасту
|
Возраст |
Дети с нарушениями: |
Итого (n=368) |
||||
|
зрения (n=182) |
слуха (n=186) |
|||||
|
n |
% |
n |
% |
n |
% |
|
|
7-12 лет |
92 |
50,5 |
80 |
43,0 |
172 |
46,7 |
|
13-18 лет |
90 |
49,5 |
106* |
57,0 |
196 |
53,3 |
|
Всего: |
182 |
100,0 |
186 |
100,0 |
368 |
100,0 |
Примечание: * – значимость, χ²=7,27, d.f.=1, p=0,007
Критерии включения в исследование: наличие выраженных нарушений слуха и зрения (сен-соневральная тугоухость III- IV степени, сенсо-невральная глухота, врожденная или приобретенная в раннем возрасте патология органа зрения – атрофия диска зрительного нерва, артефа-кия, миопия высокой степени, косоглазие, амблиопия, астигматизм, нистагм и т.п.), обусловливающие обучение в специализированных (коррекционных) школах I, II, III и IV вида; получение информированного согласия на обследование от родителей (законных представителей) и от самого ребенка при достижении им 14 лет; возраст 7– 18 лет; отсутствие обострения соматической патологии.
Критерии исключения: отказ родителей (опекунов) и/или самого ребенка от участия в исследовании; возраст младше 7 и старше 18 лет; наличие психотических расстройств (таких учащихся не было); наличие острой или обострение хронической соматической патологии в период проведения исследования.
Коррекционные образовательные учреждения, в которых проводилось исследование, являются областными, и принимают на обучение и воспитание детей из города и области. Среди детей с сенсорными нарушениями большая часть (почти 70%) – это жители областного центра, 30% – жители сельской местности, которые, в зависимости, от удаленности места проживания, находятся в условиях школы-интерната в течение рабочей недели (понедельник-пятница) или учебной четверти. Значимо чаще (p=0,03) в селах проживали дети с нарушениями слуха.
Методы исследования: клинико - психопатологический, психологический (использовались шкала депрессии для детей Марии Ковак CDI (Children`s Depression Inventory M. Kovacs [24, 25]), опросник выявления суицидального риска для подростков с сенсорными нарушениями, сопровождающимися расстройствами психологического развития [26] и статистический. Обработка данных проводилась с использованием программы STATISTI-CA, v.8.0. Распределения признаков в отдель- признано отличным от нормального, в связи с чем, для анализа количественных признаков применялись непараметрические методы, в качестве центральных тенденций – медиана и интерквартильный размах (Q25%; Q75% квартили). Для анализа показателей распространенности использовался критерий χ2 Пирсона с определением уровня значимости p и числа степеней свободы d.f. Для сопоставления двух групп по количественным признакам использовался непараметрический U критерий Манна-Уитни
Результаты исследования.
Спектр психических расстройств и нарушений у детей с сенсорными нарушениями представлен в таблице 1.
У большинства обследуемых слабослышащих и глухих детей и подростков выявлены психические расстройства. Преимущественно это смешанные специфические расстройства развития, умственная отсталость и органические расстройства. У детей и подростков с нарушением зрения чаще отмечались донозо-логические состояния [27], смешанные специфические расстройства развития, органические расстройства. У 27,7% детей с сенсорными нарушениями выявлялась сочетанная психическая патология – два психиатрических диагноза, значимо чаще (p=0,002, χ²=14,12) – у детей ных группах сравнения с помощью критериев с нарушениями слуха.
Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса было
Таблица 2
Психическое здоровье детей с сенсорными нарушениями (основной диагноз*)
|
Нозология |
Дети с нарушениями зрения (n=182) |
Дети с нарушениями слуха (n=186) |
Всего (n=368) |
Р |
Значение χ² при d.f.=1 |
|||
|
n |
% |
n |
% |
n |
% |
|||
|
Норма психического развития |
27 |
14,8 |
6 |
3,2 |
33 |
9,0 |
p=0,0001 |
χ²=15,2 |
|
Донозологические (психодезадаптационные состояния) |
41 |
22,5 |
3 |
1,6 |
44 |
12,0 |
p=0,0000 |
χ²=38,2 |
|
Аффективные расстройства ( F3) |
3 |
1,6 |
‒ |
‒ |
3 |
0,8 |
– |
– |
|
Невротические, связанные со стрессом расстройства ( F4) |
9 |
4,9 |
‒ |
‒ |
9 |
2,4 |
– |
– |
|
Психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного мозга (F06) |
35 |
19,2 |
14 |
7,5 |
49 |
13,3 |
p=0,001 |
χ²=10,9 |
|
Умственная отсталость (F70-79) |
6 |
3,3 |
40 |
21,5 |
46 |
12,5 |
p=0,0000 |
χ²=27,9 |
|
Специфические расстройства психического развития (F 81, F 83) |
37 |
20,3 |
119 |
63,9 |
156 |
42,4 |
p=0,0000 |
χ²=71,8 |
|
Гиперкинетические расстройства (F90) |
24 |
13,2 |
4 |
2,1 |
28 |
7,6 |
p=0,0001 |
χ²=15,9 |
|
Расстройства развития речи ( F80) |
37 |
20,3 |
176 |
94,6 |
213 |
57,9 |
p=0,0000 |
χ²=208,3 |
Примечание: * ‒ у части детей диагностировано более одного психического расстройства, в числе «вторых» чаще отмечались невротические, аффективные.
Депрессивные реакции у подростков с сенсорными нарушениями определялись в рамках нарушений адаптации (F43.2) как кратковременная или пролонгированная депрессивная реакция, аффективных расстройств (F33) как депрессивный эпизод легкой (1,7% слабовидящих) и средней степени (0,5% слабослышащих), дистимического варианта доно-зологических нарушений, чаще как второй диагноз, например, на фоне расстройства психологического развития. Причинами, приводящими к развитию депрессивных реакций у подростков с сенсорными нарушениями, обычно являлась внешние психотравмирующие ситуации, изменение социальной ситуации.
Для 17% детей было характерно длительное субдепрессивное состояние – аффективная лабильность, преходящее снижение настроения, снижение работоспособности и мотивации основной деятельности, пессимистическая оценка происходящего.
У детей и подростков изучаемой группы можно выделить следующие особенности развития и воспитания, препятствующие адекватному телесному восприятию себя: нарушения восприятия (зрительного, слухового, пространственно-образного) как проявления сенсорного дефекта, недостаток тактильных проявлений любви значимыми близкими (патологические типы воспитания в 69,6% случаев, материнская депривация, дети-сироты, воспитание в условиях школы-интерната), отсутствие адекватных моделей поведения, демонстрирующих образцы самопринятия, заботы о себе, поддержания определённого уровня безопасности.
Для изучения уровня депрессии и выявления возможных доклинических её проявлений была использована шкала депрессии для детей М. Ковак [25] . Важное условие её применения – необходимо убедиться, что ребенок понимает значение вопроса полностью. Шкала была заполнена 95,1% детей с нарушениями зрения (n=173) и 74,7% детей с нарушениями слуха (n=139).
Таблица 3
Результаты анализа шкалы депрессии М. Ковак
|
Уровень |
Дети с нарушениями: |
Всего (n=312) |
||||
|
зрения (n=173) |
слуха (n=139) |
|||||
|
n |
% |
n |
% |
n |
% |
|
|
Низкий |
4 |
2,3 |
‒ |
‒ |
4 |
1,3 |
|
Средний |
124 |
71,7 |
109 |
78,4 |
233 |
74,8 |
|
Повышенный |
38 |
22,0 |
27 |
19,4 |
65 |
20,8 |
|
Высокий |
7 |
4,0 |
3 |
2,2 |
10 |
3,1 |
При исследовании уровня риска депрессии у учащихся с нарушениями слуха и зрения значимых различий между группами не выявлено (табл. 3). Доля учащихся с низким и средним уровнем риска депрессии суммарно составила 76,1% от числа ответивших на вопросы шкалы. Группа детей с повышенным (20,8%) и высоким (3,1%) уровнем риска депрессии нуждается в динамическом наблюдении, повторном клиническом и психологическом обследовании и превентивных коррекционных мероприятиях.
Средние значения T-показателей шкалы депрессии детей исследуемой группы (с учётом возраста и пола) представлены в табл. 4. Согласно авторской интерпретации, уровень 5660 баллов (чуть выше среднего) и выше оценивается как проявление эмоционального неблагополучия – «50 баллов – это критическое значение, после которого глубина симптоматики нарастает» [25].
Таблица 4 Средние значения, стандартное отклонение медиана и значения квартилей показателей шкалы депрессии
М. Ковак у детей с сенсорными нарушениями
|
Показатель |
Дети с нарушениями: |
|
|
зрения (n=173), Ме1 |
слуха (n=139), Ме1 |
|
|
Общий показатель шкалы |
54 [49; 61] |
53 [49; 58] |
|
Шкала A Негативное настроение |
50 [44; 59] |
50 [48; 59] |
|
Шкала B Межличностные проблемы |
57 [50; 67] |
56 [50; 64] |
|
Шкала C Неэффективность |
52 [44; 58] |
49 [48; 54] |
|
Шкала D Ангедония |
55* [50; 58] |
51 [48; 56] |
|
Шкала E Негативная самооценка |
51 [46; 60] |
51 [46; 60] |
Примечание: 1 ‒ [Q25%; Q75%]; * ‒ значимые разли- чия средних баллов по критерию U Манна-Уитни (p=0,011).
Самыми высокими (соответствующими уровню чуть выше среднего) оказались показатели шкалы «Межличностные проблемы». Сфера межличностного взаимодействия является проблемной для детей как в связи с возрастными аспектами, семейной ситуацией, так и с учётом трудностей коммуникации, связанными с наличием дефекта. Этот аспект должен учитываться в психотерапевтических и психокоррекционных мероприятиях.
Значимые различия средних баллов учащихся с нарушениями слуха и зрения по критерию U Манна-Уитни выявлены по шкале D «Ангедония» (p=0,011).
Таблица 5
Основные статистически значимые (p<0,05) различия показателей шкалы депрессии М. Ковак в зависимости от пола (критерий U Манна-Уитни)
|
Показатель |
Мальчики |
Девочки |
Значимость различий по U критерию теста Манна-Уитни |
||
|
Rank Sum |
Rank Sum |
U |
Z |
p-level |
|
|
Общий показатель шкалы депрессии |
6576,500 |
8474,500 |
2803,500 |
2,329361 |
0,019841 |
|
Шкала «Негативное настроение» |
6762,500 |
8288,500 |
2617,500 |
2,908975 |
0,003626 |
|
Шкала «Ангедония» |
21289,50 |
27538,50 |
9772,50 |
2,415429 |
0,015717 |
|
Шкала «Негативная самооценка» |
21961,50 |
26866,50 |
9100,50 |
3,277212 |
0,001048 |
|
Слабовидящие мальчики |
Слабовидящие девочки |
||||
|
Общий показатель шкалы депрессии |
6576,500 |
8474,500 |
2803,500 |
2,329361 |
0,019841 |
|
Шкала «Негативное настроение» |
6762,500 |
8288,500 |
2617,500 |
2,908975 |
0,003626 |
|
Шкала «Негативная самооценка» |
6498,000 |
8553,000 |
2882,000 |
2,084739 |
0,037094 |
|
Мальчики с нарушениями слуха |
Девочки с нарушениями слуха |
||||
|
Общий показатель шкалы депрессии |
4597,000 |
5133,000 |
1730,000 |
2,599387 |
0,009339 |
|
Шкала «Межличностные проблемы» |
4760,000 |
4970,000 |
1567,000 |
3,297410 |
0,000976 |
|
Шкала «Ангедония» |
4568,500 |
5161,500 |
1758,500 |
2,477340 |
0,013237 |
|
Шкала «Негативная самооценка» |
4574,500 |
5155,500 |
1752,500 |
2,503034 |
0,012314 |
Выявленные статистически значимые различия показателей шкалы М. Ковак по полу представлены в таблице 5. Как в целом по группе, так и в группе детей и подростков с нарушениями слуха и зрения, у девочек выявлены значимо более высокие баллы.
Необходимо отметить, что иногда при количественных показателях шкал депрессии, характерных для низкого или среднего уровней, следует качественно анализировать ответы детей. Примером «настораживающих» ответов по шкале депрессии М. Ковак было согласие со следующими утверждениями – «я часто бываю грустный», «я часто испытываю беспокойство», «я часто (всегда) чувствую себя одиноким», «я не уверен в том, что меня кто-нибудь любит», «я чувствую себя одиноким с людьми». Если суммарный показатель набранных баллов даёт количественную оценку спектра депрессивных симптомов – сниженного настроения, гедонистической способности, вегетативных функций, самооценки, межличностного поведения, то при значениях «средний» или «(чуть) ниже среднего» качественный анализ может дать ценную информацию о переживаниях ребёнка, как правило, не вербали- зируемых. Согласие с подобными утверждениями может явиться поводом для дополнительных (уточняющих или наводящих) вопросов и быть первым признаком внутреннего конфликта или беспокойства. Непостоянные или единичные клинические симптомы дополняются «знаковыми» ответами в клинических шкалах, что может являться отражением, как преходящего дискомфорта, так и начальным этапом формирующегося пограничного расстройства. Эта группа детей нуждается в динамическом наблюдении.
Нами так же был проведён сравнительный анализ данных выявления уровня депрессивности детей и подростков, полученных разными исследователями [23, 25, 28-30]. Средние значения и краткие характеристики групп приводятся в табл. 6. Результаты изучения уровня депрессивности детей публиковались авторами без учёта конвертации в T-показатели, поэтому для сравнения нами также рассматривались «сырые» баллы.
Учитывая данные таблицы 6, дети с сенсорными нарушениями имеют больший риск развития депрессии в сравнении с учащимися общеобразовательных школ.
Таблица 6
Сравнение средних показателей уровня депрессивности детей и подростков по данным разных исследований (с использованием шкалы депрессии для детей М. Ковак)
|
Авторы |
Группы исследуемых, возраст |
Средние показатели (М) шкалы депрессии М. Ковак |
|
|
Covacs M. (1992) |
n=860 |
8-14 лет 12-15 лет |
М=9,28 М=9,72 |
|
Tweng J.M. (2002), метаанализ 310 исследований |
13-16 лет |
мальчики девочки |
М=8,9 М=10,1 |
|
Белова А.П., Малых С.Б., Сабирова Е.З., Лобаскова М.М. (2008) |
713 подростков из Москвы, Бишкека, Ижевска мальчики девочки |
М=9,0 М=9,4 |
|
|
Холмогорова А.Б., Воликова С.В. (2012) |
413 учащихся общеобразовательных школ, средний возраст 13,4 лет |
М=11,9 |
|
|
Bolat N., Doğangün B., Yavuz M., Demir T., Kayaalp L. (2011) |
40 детей с врожденной патологией зрения 11-14 лет 40 нормально видящих детей |
М=10,8±5.5 М=10,3±5.7 |
|
|
Карауш И.С. (2016) |
дети с тяжёлыми нарушениями слуха и зрения |
||
|
13-18 лет, n=190 |
мальчики девочки |
М=14 М=15 |
|
|
7-12 лет, n=122 |
мальчики девочки |
М=14 М=11 |
|
Поэтому скрининг детей этой категории на уровень депрессии должен быть обязательным в дополнении к клиническому обследованию с целью выявления симптомов, часто не фиксируемых ни родителями, ни педагогами, ни самими детьми.
Для определения суицидального риска у категории подростков, имеющих расстройства психологического развития, был разработан адаптированный опросник [26], с помощью которого обследовано 64 слабовидящих подростков и 65 учащихся с нарушениями слуха 13-18 лет (табл. 7). Дети с нарушением зрения статистически чаще (39,1%), чем учащиеся с нарушениями слуха (10,8%), сообщали о наличии суицидальных мыслей (табл. 7), но сравнения с учащимися общеобразовательной школы значимых различий не выявило (30,0%; p=0,289).
Таблица 7
Основные статистически значимые различия показателей, характеризующих суицидальное поведение, по опроснику суицидального риска
|
Вопросы опросника |
Учащиеся: |
d.f |
χ² |
p |
|||||
|
с нарушением зрения (n=64) |
с нарушением слуха (n=65) |
общеобразоват. школы (n=60) |
|||||||
|
n |
% |
n |
% |
n |
% |
||||
|
Наличие суицидальных мыслей |
25 |
39,1 |
7 |
10,8 |
18 |
30,0 |
1 |
13,8¹ |
0,0002 |
|
Бывает ли тебе так плохо, что хочется умереть? |
35 |
54,7 |
10 |
15,4 |
23 |
38,3 |
1 |
21,9¹ |
<0,00001 |
|
Наличие близкого человека, с которым можно поделиться бедами и удачами |
52 |
81,3 |
53 |
81,5 |
50 |
83,3 |
‒ |
‒ |
‒ |
|
Пытался ли ты когда-нибудь, даже в шутку, убить себя? |
2 |
3,1 |
‒ |
‒ |
17 |
28,3 |
1 |
15,2² |
0,0001 |
|
Снижение настроения |
43 |
67,2 |
16 |
24,6 |
32 |
53,3 |
1 |
23,5¹ |
<0,00001 |
Причины сниженного настроения
|
Проблемы с родителями, опекунами, близкими |
18 |
28,1 |
36 |
55 |
21 |
35,0 |
1 |
9,9¹ |
0,0017 |
|
Проблемы, связанные с чувством влюблённости |
18 |
28,1 |
14 |
21,5 |
15 |
25,0 |
‒ |
‒ |
‒ |
|
Одиночество |
22 |
34,4 |
6 |
9,2 |
12 |
20,0 |
1 |
12,0¹ |
0,0005 |
|
Проблемы в школе |
32 |
50,0 |
24 |
36,9 |
37 |
61,7 |
‒ |
‒ |
‒ |
Примечание: ¹ ‒ сравнение показателей колонок 1 и 3; ² ‒ сравнение показателей колонок 1 и 5.
О том, что «бывает так плохо, что хочется умереть» также значимо чаще в сравнении с детьми с нарушениями слуха сообщали слабовидящие учащиеся, при этом также не наблюдалось значимых различий с учащимися общеобразовательной школы (p=0,068). Большинство учащихся во всех группах сообщали о наличии близкого человека (чаще сверстника), с которым можно разделить беды и неудачи, что является определённым «антисуицидаль-ным фактором». При этом у части детей с нарушением зрения выявлялось противоречие в ответе на данный вопрос (81,3%) с признанием о снижении настроения из-за чувства одиночества (34,4%). Вероятно, первый ответ отражал желаемую ситуацию, а второй реальную.
О снижении настроения, чувстве одиночества значимо чаще сообщали слабовидящие подростки, что вызвано, в том числе, с осознанием своего дефекта и ограничений собственных возможностей (ежедневные трудности при передвижении по городу, учебой: «… я не смогу поступить в ВУЗ из-за плохого зрения»).
Как правило, самую важную роль в конфликтных ситуациях подростков с признаками суицидального поведения играли проблемные взаимоотношения в семье. Высокая частота деструктивных форм семейного взаимодействия, семейных конфликтов и алкогольной зависимости родителей в семьях подростков, совершивших завершенные суициды, описана в литературе [31, 32]. Дисгармоничность в семейных отношениях, наряду с дисгармоничностью структуры личности, являются потенциальными факторами, «создающим почву» суицидального поведения [33, 34]. В семьях детей с сенсорными нарушениями (приводятся данные для всей исследуемой группы) мы наблюдали признаки как явного («внешнее») семейного неблагополучия – патологические типы воспитания (69,6%), психологическое или физическое насилие, аддиктивные проблемы у одного или обоих родителей (24,7%), воспитание опекуном (5,4%) при лишении родителей их прав, так и скрытое («внутреннее») – дисфункциональные паттерны взаимодействия в семье, систематические конфликты, проблемы взаимодействия с неродным родителем, амбивалентное отношение к ребенку («слияние любви и агрессии»), не совсем или отчасти не осознаваемое родителями. В случаях суицидальных намерений или попыток на фоне длительного семейного конфликта и хронической стрессовой ситуации школьный конфликт или конфликт со сверстниками мог быть «последней» значимой каплей. При сравнении групп детей с нарушениями слуха и зрения значимых различий не выявлено.
Утвердительно на вопрос «Пытался ли ты когда-нибудь, даже в шутку, убить себя?» ответили 3% слабовидящих учащихся и, значимо чаще 28,3% (p=0,0001) учеников общеобразовательной школы; среди слабослышащих и глухих подростков таких не оказалось. Причинами, ограничивающими учащихся коррекционной школы от самоповреждающих действий (несмотря на более часто возникающие суицидальные мысли и подавленное настроение), могут быть, как, с одной стороны, инфантильность, незрелость психики, трудности принятия решения, так, с другой стороны, проживание и обучение в условиях интерната, где обеспечивается бòльший контроль со стороны взрослых, организованный досуг, возможность наблюдения. Мы не наблюдали умышленных и неумышленных самоповреждений у данной когорты детей.
По результатам проведенного скрининга средний уровень суицидального риска выявлен у 19,4% (n=25) и высокий – у 6,9% (n=9) подростков. При клиническом обследовании лиц с высоким уровнем суицидального риска выявлено психодезадаптационное состояние доклинического уровня – у 4 человек, расстройство адаптации (F43.2) – у 2, легкий депрессивный эпизод (F32.00) – у 2 учащихся и депрессивный эпизод средней степени (F32.10) – у 1 подростка.
Для подростков сенсорными нарушениями, имеющих признаки аутоагрессивного поведения, были характерны следующие особенности поведения и взаимоотношений с окружающими:
-
- внезапные аффективные вспышки, приступы вербальной или физической агрессии, чередующиеся с эпизодами апатии и отсутствия заботы о себе;
-
- неадекватная оценка собственных возможностей и способностей;
-
- неспособность отстаивать свои интересы;
-
- отсутствие «изолированного», «локализованного в одной сфере жизни» конфликта. Как правило, неблагополучие выявляется в нескольких сферах – сверстники, школа, принятие себя, но всегда при этом есть длительные конфликтные семейные отношения (в большинстве случаев семья не может являться достаточным ресурсом для реабилитационных мероприятий);
-
- стремление рассказывать о своих несчастьях, преувеличенных или реальных, вызывая
у слушателей эмоциональный отклик (жалость, вину, гнев);
-
- отсутствие четких границ между истинными суицидальными намерениями и демон-стративно-шантажирующим стилем поведения, в большей степени характерного для лиц с низким уровнем развития навыков социальной компетентности;
-
- отсутствие типичного для подросткового возраста «подражательного» (кумиру, сверстнику и т.п.) мотива.
Иногда собственным неадекватным поведением подростки провоцировали негативное отношение к себе родителей, сверстников, педагогов, как бы подтверждая собственную роль «жертвы».
-
37,9% детей с нарушениями зрения в той или иной степени отмечали влияние дефекта на их функционирование (более явно это осознаётся в подростковом возрасте): «… раньше сильно депрессовал из-за своей болезни, это меня прямо «ело изнутри». Когда поступил в специализированную школу-интернат, долго привыкал, не хотел оставаться ночевать, чувствовал себя «брошенным детдомовским ребенком» (П., ВАР зрительного анализатора, 16 лет).
Ситуации, когда наличие дефекта воспринимается как психотравмирующая ситуация, могут сопровождаться эмоциональными проявлениями (колебанием настроения, аффективными вспышками), снижением самооценки, негативным видением будущего. Часто подростки расстраиваются при обсуждении вопросов о будущих перспективах, которые им могут быть недоступны, в отличие от их сверстников, например, возможность водить машину, обучаться в ВУЗе на определённой специальности или участия в каких-либо общественных мероприятиях.
В качестве примеров приводим описание двух клинических наблюдений.
Клиническое наблюдение 1.
Даша Н., 14 лет, диагноз: H90.3 двусторонняя сенсоневральная тугоухость III ст., F83 смешанное специфическое расстройство развития, F80.88 другие расстройства развития речи, F 43.23 Расстройство адаптации с преобладанием нарушения других эмоций.
При проведении скринингового обследования с помощью опросника суицидального риска утвердительно ответила на вопросы о наличии суицидальных мыслей и сниженного настроения, как причину указав «чувство одиночества», «непонимание со стороны родителей»; согласилась с утверждениями: «я понимаю людей, которые не хотят жить дальше, если их предают родные и близкие», «стала меньше общаться с друзьями», периодически бывает «так плохо, что хочется умереть» и «думала, как можно умереть». Отрицательно ответила на вопросы о занятиях (увлечениях), от которых получает удовольствие и наличии определённых планов на будущее. Набранная сумма баллов соответствовала высокому уровню суицидального риска [26].
Родители девочки глухие, старший брат (19 лет) слабослышащий, учится в профессиональном училище, с сестрой взаимоотношения проблемные. Полгода назад родители развелись, отец ушел «к другой женщине». Отношения между родителями долгое время были конфликтными, такими сохраняются до настоящего времени. Общение отца с дочерью сокращено до редких формальных встреч, её жизнью он не интересуется, что является стрес-сорным фактором для девочки. Стиль воспитания в семье был по типу «скрытой гипопротекции», когда на фоне формально имеющегося присмотра за детьми имелся реальный недостаток тепла и заботы, невключённость в жизнь ребенка; при этом авторитетом в большей степени был отец.
Из беседы с классным руководителем: в течение последних месяцев девочка стала хуже учиться, отмечаются колебания настроения, периодически становится «неуправляемой» - срывает, прогуливает уроки, грубит учителям и детям, отказывается подчиняться школьным требованиям. Вспышки гнева и раздражительности отмечаются, когда видит в школе отца, который приводит сына новой жены, обучающегося в той же коррекционной школе; при этом отец не проявляет заинтересованности в общении с дочерью.
Из беседы с мамой (при участии сурдопереводчика): после ухода отца из семьи дочь стала «нервной», «не слушается», настроение часто меняется, грозится «что-то с собой сделать», несколько раз после конфликта с мамой уходила «к папе», где её не принимали, после чего не хотела идти домой, бродила по улицам, один раз была найдена полицией в приюте г. Новосибирска. Обещает, что следующий раз «будет последний...».
Жалоб активно не предъявляет, негативно настроена на общение с врачом, «все бесполезно», «не надо мне помогать». Сообщает о проблемах в семье, из-за которых чувствует себя ненужной, одинокой («меня никто не любит», «никто не понимает»), часто появляющихся мыслях, что «лучше бы меня не было», «пора всё прекратить». При клиническом обследовании и наблюдении в условиях школы выявлено: колебания настроения, с тенденцией к снижению, аффективные реакции - раздражительность, негативизм, импульсивные поступки, благодаря чему отношения со сверстниками стали напряжёнными, конфликтными, близких друзей не имеет; во время учебных занятий - снижение концентрации и объёма внимания, отвлекаемость, низкий темп умственной работоспособности. Общий уровень депрессии по шкале М. Ковак соответствует характеристике «выше среднего», с наиболее высокими баллами по шкалам «межличностные проблемы» (соответствует высокому уровню) и «неэффективность».
Клиническое обследование подтвердило высокий уровень суицидального риска, выявленный при скрининге. Состояние подростка требовало проведения индивидуальной психотерапии, направленной на повышение стрессоустойчивости, формирование навыков адекватного эмоционального отреагирования и разделения ответственности за происходящее в семье, отвлечение от ситуации, участие в занятиях со сверстниками (учеба, хобби, спорт).
При отсутствии четких границ между истинными суицидальными намерениями и де-монстративно-шантажирующим стилем поведения, тактика ведения строится с учётом максимально серьезной оценки ситуации и вероятности неблагоприятных исходов.
Клиническое наблюдение 2.
Вика, 15 лет. Диагноз – ВАР органа зрения (атрофия ДЗН OD, сходящееся косоглазие), смешанное специфическое расстройство развития F83.
При проведении скринингового обследования с помощью опросника суицидального риска утвердительно ответила на вопросы о наличии суицидальных мыслей и сниженного настроения, как причину указав «проблемы в школе», «чувство одиночества»; согласилась с утверждениями: «стала меньше общаться с друзьями», периодически бывает «так плохо, что хочется умереть» и «думала, как можно умереть». Отрицательно ответила на вопросы о занятиях (увлечениях), от которых получает удовольствия и наличии определенных планов на будущее. Набранная сумма баллов соответствовала высокому уровню суицидального риска [26] .
Ранний анамнез отягощен (токсикоз, угроза прерывания, мать злоупотребляла алкоголем во время беременности). Мать лишена родительских прав, отец находится в местах лишения свободы, проживает с опекуном (тётя).
Настроение – неустойчивое с тенденцией к сниженному, отмечается «чувство безнадежности», негативизм при необходимости выполнения нестандартных заданий или школьных поручений, начале чего-то нового. На фоне конфликтной ситуации в школе (отвержение сверстников, несчастная любовь) появились аффективные колебания – от вспышек гнева, раздражительности, «ярости», до ощущения апатии, скуки, появилось чувство «собственной ненужности», стала плаксивой, часто пропускает уроки, снизилась учебная мотивация. Одной из главных причин пессимистического видения будущего считает свое основное заболевание, «я такая никому не нужна», «есть ли смысл что-то делать, если всё равно ничего не получается и ничего не могу». Сообщает, что периодически размышляет о способах возможного ухода из жизни, читает об этом в Интернете. Какие-либо увлечения, хобби отсутствуют. С раннего возраста – страх темноты. Курит в течение полугода, последний месяц до 8-10 сигарет в день.
Общий уровень депрессии по шкале М. Ковак соответствует характеристике «выше среднего», с наиболее высокими баллами по шкалам «межличностные проблемы» (соответствует высокому уров- ню) и «негативная самооценка» (с выбором из трех вариантов: «Я не думаю о том, чтобы покончить с собой» – «Я думаю о самоубийстве, но я не совершу его» – «Я хочу убить себя» последнего ответа). Уровень тревоги по шкале детской тревожности CMAS повышенный.
С подростком также проводилась индивидуальная психотерапия, включающая такие составляющие, как эмоциональная поддержка, повышение самооценки и стрессоустойчивости, формирование навыков адекватного эмоционального отреагирования и адаптированности, расширение спектра социальных контактов, «моделирование» уверенного поведения, преодоление «личной неэффективности».
Еще одно клиническое наблюдение ребенка с суицидальным поведением, имеющего суицидальные намерения и план, было нами подробно описано ранее [22]. Педагоги коррекционных школ, как правило, демонстрируют недостаточную психологическую готовность к взаимодействию с учащимися с суицидальными мыслями и/или намерениями. Часто педагоги не знают, как вести беседу с таким подростком, высказывая замечания «другие живут ещё хуже» или «ты понимаешь, что будет с твоими родителями?», демонстрирующие страх и внутреннее осуждение, испытываемые взрослым и провоцирующие ещё большую подавленность, замкнутость и нежелание общения. С педагогическим коллективом школы проводились семинары и консультирование о причинах и проявлениях суицидального поведения детей и подростков, обсуждалась тактика взаимодействия с ними.
Обсуждение.
Для детей с сенсорными нарушениями, в целом, характерны показатели шкалы депрессии на уровне «норма» – «чуть выше среднего», с максимальными значениями по шкале «межличностные проблемы». Для учащихся с нарушениями зрения значимо чаще характерны более высокие баллы по шкалам «ангедония» и «неэффективность», что необходимо учитывать при психотерапевтической работе. Скрининг детей с сенсорными нарушениями на уровень депрессии должен быть обязательным в дополнении к клиническому обследованию с целью выявления симптомов, часто не фиксируемых ни родителями, ни педагогами, ни самими детьми. Депрессивные состояния у подростков имеют свою специфику: они нередко плохо осознаются ими самими именно как сниженное настроение, и могут выражаться в нарастании агрессивного поведения, упрямства, оппозиционного поведения, ухода в себя [23]. Даже на доклиническом уровне депрессия может оказывать значительное негативное влияние на жизнь детей и подростков [35]. Доклинические проявления депрессии могут сопровождать ребёнка или подростка месяцами или даже годами, оказывая разрушительное влияние на общение со сверстниками, обучение и другие жизненные сферы [29]. Подростки, которые имеют высокий уровень депрессивности, но не отвечают диагностическим критериям депрессии, зачастую страдают от столь же высокого уровня социальной дезадаптации, как и лица с клинически диагностированной депрессией [36]. Помимо количественного анализа шкалы депрессии, особенно в ситуации ребёнка с речевыми, интеллектуальными нарушениями, важен и качественный анализ ответов на вопросы шкалы депрессии.
Проявлениями склонности к суицидальным действиям у обсуждаемой категории детей являются не только собственно суицидальные намерения и попытки, но и культивирование неспособности заботиться о себе, нежелание приобретать навыки самостоятельности, а также раннее начало курения, употребления алкоголя, вовлечение в криминальные группировки, делинквентное поведение. Депрессивная реакция у подростков с сенсорными нарушени- ями может оцениваться в качестве индикатора нарушения целостности «Я» и угрозы позитивного переживания социального опыта и дальнейшего развития.
Список литературы Дети и подростки с сенсорными нарушениями: проблемы депрессии и суицидального риска
- Гранкина И.В., Иванова Т.И. Ведущие факторы формирования психопатоподобных расстройств поведения у детей с психической патологией//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2016. -№ 2 (91). -С. 66-71.
- Jones C.R., Pickles A., Falcaro M. et al. A multimodal approach to emotion recognition ability in autism spectrum disorders//J. Child. Psychol. Psychiatry. -2010. -Vol. 18. -Р. 122-126.
- Hogan A. Shipley M., Strazdins L. Communication and behavioural disorders among children with hearing loss increases risk of mental health disorders//Australian and New Zealand journal of public health. -2011. -Vol. 35. -Issue. 4. -P. 377-383.
- Engel-Yeger B., Durr D., Josman N. Comparison of memory and meta-memory abilities of children with cochlear implant and normal hearing peers//Disability and Rehabilitation. -2011. -Vol. 33, № 9. -P. 770-777.
- Parker A.T., Ivy S.E. Chapter four -communication development of children with visual impairment and deaf blindness: a synthesis of intervention research//International Review of Research in Developmental Disabilities. -2014. -Vol. 46. -P. 101-143.
- Saisky Y., Hasid S., Ebert T., Kosov I. Issues in psychiatric evaluation of children and adolescents with visual impairment Harefuah//2014. -Vol. 153, № 2. -P. 109-112.
- Landsberger S.A., Diaz D.R., Spring N.Z., Sheward J., Sculley C. Psychiatric diagnoses and psychosocial needs of outpatient deaf children and adolescents//Child Psychiatry Hum. -2014. -Vol. 45, № 1. -P. 42-51.
- Ludi E., Ballard E. D., Greenbaum R. et al. Suicide risk in youth with intellectual disabilities: the challenges of screening//J. Dev. Behav. Pediatr. -2012. -Vol. 33, № 5. -P. 431-440.
- Dudzinski E.F. An analysis of administrative response patterns to suicide ideation among deaf young adults. PhD thesis. -Washington DC: Gallaudet University, 1998.
- Landsberger S.A., Diaz D.R., Spring N.Z., Sheward J., Sculley C. Psychiatric diagnoses and psychosocial needs of outpatient deaf children and adolescents//Child Psychiatry Hum. -2014. -Vol. 45, № 1. -P. 42-51.
- Ludi E., Ballard E. D., Greenbaum R. et al. Suicide risk in youth with intellectual disabilities: the challenges of screening//J. Dev. Behav. Pediatr. -2012. -Vol. 33, № 5. -P. 431-440.
- Dudzinski E.F. An analysis of administrative response patterns to suicide ideation among deaf young adults. PhD thesis. -Washington DC: Gallaudet University, 1998.
- Landsberger S.A., Diaz D.R., Spring N.Z., Sheward J., Sculley C. Psychiatric diagnoses and psychosocial needs of outpatient deaf children and adolescents//Child Psychiatry Hum. -2014. -Vol. 45, № 1. -P. 42-51.
- Ludi E., Ballard E. D., Greenbaum R. et al. Suicide risk in youth with intellectual disabilities: the challenges of screening//J. Dev. Behav. Pediatr. -2012. -Vol. 33, № 5. -P. 431-440.
- Dudzinski E.F. An analysis of administrative response patterns to suicide ideation among deaf young adults. PhD thesis. -Washington DC: Gallaudet University, 1998.
- Landsberger S.A., Diaz D.R., Spring N.Z., Sheward J., Sculley C. Psychiatric diagnoses and psychosocial needs of outpatient deaf children and adolescents//Child Psychiatry Hum. -2014. -Vol. 45, № 1. -P. 42-51.
- Ludi E., Ballard E. D., Greenbaum R. et al. Suicide risk in youth with intellectual disabilities: the challenges of screening//J. Dev. Behav. Pediatr. -2012. -Vol. 33, № 5. -P. 431-440.
- Dudzinski E.F. An analysis of administrative response patterns to suicide ideation among deaf young adults. PhD thesis. -Washington DC: Gallaudet University, 1998.
- Landsberger S.A., Diaz D.R., Spring N.Z., Sheward J., Sculley C. Psychiatric diagnoses and psychosocial needs of outpatient deaf children and adolescents//Child Psychiatry Hum. -2014. -Vol. 45, № 1. -P. 42-51.
- Ludi E., Ballard E. D., Greenbaum R. et al. Suicide risk in youth with intellectual disabilities: the challenges of screening//J. Dev. Behav. Pediatr. -2012. -Vol. 33, № 5. -P. 431-440.
- Dudzinski E.F. An analysis of administrative response patterns to suicide ideation among deaf young adults. PhD thesis. -Washington DC: Gallaudet University, 1998.
- Куприянова И.Е., Дашиева Б.А., Карауш И.С. Особенности суицидального поведения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья //Медицинская психология в России: электронный научн. журнал. -2013. -№ 2 (19). -Режим доступа: http://medpsy.ru
- Холмогорова А.Б., Воликова С.В. Основные итоги исследований факторов суицидального риска у подростков на основе психосоциальной многофакторной модели расстройств аффективного спектра //Медицинская психология в России: электронный научный журнал. -2012. -№ 2. -Режим доступа: http://medpsy.ru (дата обращения: 21.08.2015).
- Kovacs M. Rating scales to assess depression in school aged children//Acta Paedopsychiatr. -1981. -Vol. 46. -P. 305-315.
- Kovacs M. The Children’s Depression Inventory (CDI) manual North Tanawanda. -New York: Multi-Health Systems, 1992.
- Патент 2539400. Способ выявления суицидального риска для последующей коррекции у подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата и сенсорными нарушениями, сопровождающимися расстройствами психологического развития, учащихся коррекционных школ/Куприянова И.Е., Дашиева Б.А., Карауш И.С. Заявка. № 2013152564, 26.11.2013 г. опубл. 20. 01.2015. Бюл. № 2.
- Семке В.Я. Превентивная психиатрия. -Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999. -403 с.
- Twenge J.M., Nolen-Hoeksema S. Age, gender, rase, socioeconomic status and birth cohort differences on the children’s depression inventory: a meta-analysis//Journal of Abnormal Psychology. -2002. -Vol. 111, № 4. -P. 578-588.
- Белова А.А., Малых С.П., Сабирова Е.З. и др. Оценка де-прессивности в подростковом возрасте//Вестник ЮУрГУ. -2008. -№ 32. -С. 10-18.
- Карауш И.С. Психическое здоровье детей с сенсорными нарушениями: Автореф. дисс..докт. мед. наук. -Томск, 2016.-49 с.
- Кривулин Е.Н., Кривулина О.Е. Социально-демографическая и клинико -психологическая характеристика лиц детско-подросткового возраста с завершенными суицидами и суицидальным поведением//Тюменский медицинский журнал. -2014. -Том 16, № 1. -С. 6-8.
- Ворсина О.П. Социально-демографические и клинические характеристики детей и подростков, совершивших завершенные суициды//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2016. -№ 3 (92). -С. 51-54.
- Лукашук А.В. Роль семейного функционирования в генезе суицидальной активности детей//Академический журнал Западной Сибири. -2016. -Том 12, № 3. -С. 90-93.
- Федунина Н.Ю., Банников Г.С. Связь семейной сплоченности и адаптивности по опроснику FACES-3 с проявлениями социальнопсихологического неблагополучия несовершеннолетних//Тюменский медицинский журнал. -2016. -Том 18, № 4. -С. 22-35.
- Nolen-Hoeksema S., Girgus J.S., Seligman M.E. Sex differences in depression and explanatory style in children//Journal of youth, adolescence. -1991. -Vol. 20. -P. 233-245.
- Gotlib I.H., Lewinsohn P.M., Seeley I.R. Symptoms versus a diagnosis of depression: differences in psychocosial functioning//Journal of Consulting and Clinical Psychology. -1995. -Vol. 63. -P. 90-100.
- Lukashuk A.V. The role of family functioning in the genesis of suicidal activity among children//Academic Journal of West Siberia. -2016. -Vol. 12, № 3. -Р. 90-93. (In Russ)
- Fedunina N.Yu., Bannikov G.S. Association of family cohesion and adaptation in FACES-3 scale with psychological wellbeing in adolescence//Tyumen Medical Journal. -2016. -Vol. 18, №
- Nolen-Hoeksema S., Girgus J.S., Seligman M.E. Sex differences in depression and explanatory style in children//Journal of youth, adolescence. -1991. -Vol. 20. -P. 233-245.
- Gotlib I.H., Lewinsohn P.M., Seeley I.R. Symptoms versus a diagnosis of depression: differences in psychocosial functioning//Journal of Consulting and Clinical Psychology. -1995. -Vol. 63. -P. 90-100.