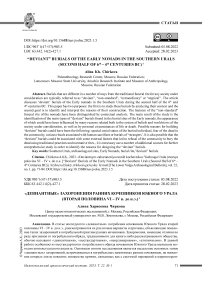"Девиантные" захоронения ранних кочевников Южного Урала (вторая половина VI - IV в. до н.э.)
Автор: Чиркова А.Х.
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются «девиантные» погребения кочевников Южного Урала второй половины VI - IV в. до н.э., рассматриваются их различные варианты и причины, объясняющие появление таких захоронений в погребальной практике ранних кочевников. Захоронения, имеющие отличия по ряду признаков от погребального обряда, традиционного для какого-либо рассматриваемого общества, обычно называют «девиантными», «нестандартными», «неординарными», «атипичными». В данной работе особенности «нестандартного» погребального обряда кочевников Южного Урала выявлены методом контекстуального анализа. Основным итогом исследования является выделение основных типов «девиантных» захоронений, встречающихся в погребальных памятниках ранних кочевников, на появление которых могло повлиять множество причин, связанных как с системой верований и мировоззренческих представлений исследуемого общества, так и с обстоятельствами жизни или смерти погребенных. Возможными причинами совершения «девиантных» погребений могли являться: особый социальный статус погребенных, страх общества перед умершими, ритуалы, связанные с человеческими жертвоприношениями, захоронениями «чужаков». Не исключено также, что «девиантные» погребения в памятниках ранних кочевников могли быть связаны с какими-либо внешними факторами, приводившие к отказу коллектива от захоронения умерших по канонам традиционного, нормативного обряда. Для выявления возможных причин совершения «девиантных» захоронений необходимо проводить мультидисциплинарные исследования и привлекать ряд дополнительных источников для дальнейшего комплексного изучения.
Южный урал, археологические памятники, ранние кочевники, погребальный обряд,
Короткий адрес: https://sciup.org/149143830
IDR: 149143830 | УДК: 903'1(47+57):903.5 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2023.1.5
Текст научной статьи "Девиантные" захоронения ранних кочевников Южного Урала (вторая половина VI - IV в. до н.э.)
DOI:
Цитирование. Чиркова А. Х., 2023. «Девиантные» захоронения ранних кочевников Южного Урала (вторая половина VI – IV в. до н.э.) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 22, № 1. С. 71–84. DOI:
Ритуалы захоронений позволяют выявлять и различать каноны погребальных традиций, характерные для определенной культуры. Погребения, с «отклонениями» от обрядовых традиций, в основном, обозначаются как «нестандартные», «неординарные», «атипичные» или «девиантные»2. Согласно Е. Аспек, к «девиантным» относятся погребения, которые отличаются от нормативных погребальных обрядов соответствующего периода, региона или кладбища [Aspöck, 2008, p. 17]. Обычно такие захоронения ассоциируются с погребениями, обнаруженными за пределами некрополей, на поселениях, или в каких-нибудь иных необычных для захоронений местах [Берсенева, 2016, c. 12].
«Девиантными» погребениями также называют: захоронения в нестандартных позах; массовые захоронения; кремации (при преобладании традиции ингумации); захоронения в очень глубоких могильных ямах или специально перекрытые тяжелыми каменными плитами. Иногда к «девиантным» захоронениям относят человеческие жертвоприношения и различные варианты постмортальных манипуляций [ Берсенева, 2016, c. 12; Hodgson, 2013; Tsaliki, 2008, p. 2].
Исследований, посвященных «девиантным» погребениям ранних кочевников евразийских степей, немного. Так как определение «девиантных» погребений является широким по смыслу, то размах тем изучения таких захоронений включает в себя рассмотрение «нестандартных» поз погребенных [Балабанова, 2003; Очир-Горяева, 2018]; захоронений на поселениях [Разуваев, 2018]; специальных ритуалов и манипуляций, связанных с те- лами умерших [Balabanova, Pererva, 2019]; обрядов обезвреживания [Флеров, 2000] и пр.
Наиболее внимательно «девиантные» погребения ранних кочевников Волго-Уральского региона рассматривались в работах М.А. Балабановой и Е.В. Перервы [Балабанова, 2011; Balabanova, Pererva, 2019], В.К. Фёдорова, Я.В. Рафиковой [Рафикова, Фёдоров, 2017] и М.А. Очир-Горяевой [Очир-Горяева, 2018; 2019]. Кроме того, поднятая в статье проблема отчасти уже рассматривалась автором в его диссертационном исследовании [Гильмитдинова, 2021].
Целью данной работы является исследование «девиантных» погребений ранних кочевников Южного Урала второй половины VI – IV в. до н.э. и выявление характерных черт «необычных» захоронений индивидов, которые, вероятно, могли принадлежать отдельным социальным группам, составляющим часть кочевого общества рассматриваемого периода.
Материалы и методы
Для изучения «девиантных» захоронений необходимо выделить комплекс признаков традиционного погребального обряда, характерный для каждой культуры, периода или даже отдельного археологического памятника [Hodgson, 2013]. При наличии достаточного количества данных возможно выявление «типичных» признаков обряда и менее распространенных его черт, на основе чего можно составить описание «нормального» или «отличающегося» типа захоронений. Для корректного исследования степени «отклонения» специфических признаков погребального обряда в данной работе был ис- пользован метод контекстуального анализа, который заключался в изучении погребальных комплексов в зависимости от ситуаций и условий их нахождения на памятнике.
Всего рассмотрено 387 погребений из 216 курганов кочевников Южного Урала второй половины VI – IV в. до н.э. Из них выявлено 54 «нестандартных» захоронения.
По возможности из анализа исключались все нарушенные комплексы. Важным условием исследования являлось расположение костей скелета in situ. Если по какой-либо причине захоронение было потревожено, но при этом «девиантный» характер погребения не вызывал сомнений, то такие комплексы также включались в выборку.
Антропологические определения принадлежат М.С. Акимовой, С.Г. Ефимовой, Т.С. Кон-дукторовой, Р.М. Юсупову, Л.Т. Яблонскому, А.И. Нечвалоде и В.В. Куфтерину 3.
Анализ
Чтобы быть уверенными, что каждый рассматриваемый вариант «девиантных» захоронений действительно является специфичным для погребений конкретного хронологического периода и региона, необходимо определиться с критериями «типичного» погребального обряда [Hodgson, 2013].
Погребальный обряд кочевников Южного Урала второй половины VI – IV в. до н.э. достаточно хорошо изучен. На текущий момент выявлены элементы погребального обряда кочевников, характерные как для второй половины VI – V в. до н.э., так и конца V – IV в. до н.э., тем самым, были выделены особенности погребальных традиций для каждого из этих двух периодов [Смирнов, 1964; Очир-Горяева, 1987, с. 43–45; Железчиков, Пшеничнюк, 1994; Гуцалов, 2004; Таиров, 2000, с. 16–28; Яблонский, 2011].
Из всех признаков погребального обряда ранних кочевников Южного Урала второй половины VI – IV в. до н.э. вкратце можно перечислить основные4. В первую очередь это: захоронения под курганами, в могильных ямах разных типов – простых грунтовых, с подбоем, дромо-сом или в катакомбе; ямы ориентированы широтно или меридионально, умершие уложены вытянуто на спине, руки вдоль туловища, голо- вой ориентированы на запад или юг – в зависимости от рассматриваемого периода.
Несмотря на существовавшие погребальные традиции, захоронения ранних кочевников отличаются относительной вариативностью, что может быть обусловлено обстоятельством неоднородного и, во многих смыслах, многокомпонентного сложения кочевого населения Южного Урала второй половины VI – IV в. до н.э. [Таиров, 2006; 2009; Яблонский, 2011].
Среди исследованных захоронений кочевников второй половины VI – V в. до н.э. к «девиантным» погребениям были отнесены погребения: на животе (Альмухаметово, кург. 9, погр. 2; Целинный, кург. 1, погр. 2); на правом боку вытянуто (Близнецы, кург. 5, погр. 1; Покровка 8, кург. 1, погр. 7) и скорченно (Кы-рык-Оба II, кург. 18, погр. 1); на левом боку (Пятимары I, кург. 6, погр. 1, скелет 1а; Увак, кург. 2, погр. 2); захоронения обезглавленных тел (Целинный, кург. 1, погр. 1) и отдельных их частей (Кырык-Оба II, кург. 18), а также трупосожжения на стороне (Пятимары I, кург. 5) и «на месте» (Мечетсай, кург. 4, погр. 4; III Аландский, кург. 6, погр. 1, 2).
Отдельно рассматривались погребенные в: «атакующей» позе (Лебедевка IV, кург. 18; Лебедевка VII, кург. 16, погр. 7), в «позе всадника» (Увак, кург. 6, погр. 1; Мечетсай, кург. 10, погр. 1) и в других позах, которые на данный момент никак специально в литературе не обозначены (Тара-Бутак, кург. 3; Увак, кург. 2, погр. 3; Увак, кург. 7, погр. 1; Бес-Оба, кург. 3, погр. 1).
В погребении 1 кургана 1 у пос. Целинный было совершено парное погребение обезглавленных тел умерших, черепа которых лежали на дне могильной ямы. Согласно А.Х. Пшенич-нюку, в яму сначала были положены головы, а затем уже обезглавленные тела [Пшеничнюк, 1977, с. 21]. В захоронении 2 этого же кургана, погребенный был положен в позе «убитого», то есть на животе, тело было согнуто под тупым углом [Пшеничнюк, 1977, с. 22].
Периферийное безынвентарное погребение из могильника Кырык-Оба II (кург. 18, погр. 1), рассматривалось С.Ю. Гуцаловым как зависимое по отношению к основному захоронению [Гуцалов, 2010, с. 58]. Обнаруженное на вершине насыпи кургана 18 скопление черепов, разрозненных костей четырех взрослых людей и детское погребение были интерпретированы им как жертвоприношения [Гу-цалов, 2011, с. 93].
Вероятно, к еще одному случаю человеческого жертвоприношения можно отнести погребение из могильника Увак (кург. 2, погр. 2), в котором покойник был похоронен на левом боку с согнутыми ногами, кости его рук находились в перекрещенном положении, как будто бы он был погребен со связанными руками. Череп отсутствовал [Смирнов, 1975, с. 56–57].
Трупосожжения встречаются гораздо реже трупоположения, которое является традиционным в рамках погребального обряда ранних кочевников Южного Урала. Различают три вида трупосожжений: 1) на уровне древнего горизонта; 2) на месте – путем засыпки могилы горящим костром или разведения костра внутри могилы; 3) на стороне – когда сжигание происходило за пределами кургана, а затем останки переносились в могильную яму [Очир-Горяева, 1987, с. 43–45].
По результатам анализа рассматриваемой выборки непотревоженных захоронений, было выявлено два вида трупосожжений: «на-месте» и «на стороне». Одним из примеров трупосожжения на месте являются погребения 1 и 2 из кургана 6 Аландского III могильника. По реконструкции М.Г. Мошковой, эти захоронения были совершены на деревянном помосте, который являлся ложем для сожжения [Мошкова, 1972, с. 64]. Однако А.Д. Таиров интерпретирует сожжение в погребениях кургана 6 Аландского III могильника не как трупосожжение, а как результат ограбления с последующим поджогом деревянного погребального сооружения [Таиров, 2014].
Для погребальных комплексов с трупо-положением важной частью обряда является поза погребенного [Очир-Горяева, 1987, с. 43– 45]. При существовавшей традиции захоронений в вытянутом на спине положении и с руками вдоль тела, трудно определить, являлись ли альтернативные варианты трупоположения «нетипичными» формами захоронений. Известно лишь, что слабо- и сильноскорченные положения не характерны для погребального обряда ранних кочевников Южного Урала, поэтому их можно считать «нестандартны- ми», но только в рамках южноуральского региона. Такие позы наиболее характерны для погребальных памятников пазырыкской культуры Горного Алтая, алдыбельской и саглын-ской культур Саянского нагорья [Очир-Горя-ева, 2019, с. 814].
Непростой темой для изучения являются позы, при которых погребенные были уложены вытянуто на спине с разными вариациями расположения верхних и нижних конечностей. За некоторыми из поз в литературе закрепились названия: «танцующая» (на спине с подогнутыми коленями и с широко расставленными ногами и руками) и «атакующая» (одна нога согнута в колене и отставлена в сторону от второй, выпрямленной ноги) [Смирнов, 1964, с. 92].
О.В. Обельченко было введено еще одно определение – «поза всадника». Он предполагал, что расставленные ноги погребенных свидетельствуют о доставке трупа к могиле, посаженным в седло [Обельченко, 1992, с. 118–120]. Данная интерпретация позы, как следствие транспортировки умерших верхом на лошади, была принята М.А. Очир-Горяевой, проанализировавшей весь комплекс источников по кочевникам скифо-сарматской эпохи степной зоны [Очир-Горяева, 2019, с. 817].
Считается, что исследуемые позы связаны с социальным статусом и характерны для погребений кочевой элиты [Симоненко, 2012, с. 211–212; Очир-Горяева, 2019, с. 814]. Однако по исследуемым в данной статье погребениям второй половины VI – V в. до н.э., полностью подтвердить данное утверждение не удалось, так как погребенные в рассматриваемых позах встречались как в элитных, так и в «рядовых» захоронениях.
В «позе всадника» были обнаружены детские погребения в могильниках Увак (кург. 6, погр. 1) и Мечетсай (кург. 10, погр. 1). По признакам погребального обряда и состава инвентаря они не принадлежали к представителям кочевой знати. В одном из погребений Увакского могильника (кург. 2, погр. 3) был захоронен пожилой мужчина в позе с раскинутыми в стороны и согнутыми в локтях руками, с подогнутыми и повернутыми влево ногами. Вместе с ним в могильной яме находились только кости мелкого рогатого скота, один наконечник стрелы и каменная поделка. Данное захоронение тоже не могло принадлежать человеку высокого социального статуса.
В могильниках Тара-Бутак (кург. 3) и Бес-Оба (кург. 3, погр. 1) были обнаружены богатые «жреческие» захоронения [Смирнов, 1975, с. 44; Кадырбаев, Курманкулов, 1978, с. 70]. В первом случае индивид был захоронен в вытянутом на спине положении с расставленными руками; во втором – на спине, с согнутой в локте и приподнятой к голове правой рукой. Рассмотренные позы не относятся к наиболее распространенным: «танцующей», «атакующей» или «позе всадника», но они, вероятно, тоже могли нести какую-то смысловую нагрузку.
К «нетипичным» погребениям конца V – IV в. до н.э. были отнесены захоронения: на животе (Филипповка 1, кург. 29, погр. 2; Пере-волочан I, кург. 12, погр. 2; Лебедевка V, кург. 16, погр. 3); в положении сидя или стоя (Филипповка 1, кург. 16, погр. 1); на правом боку (Филипповка 2, кург. 3, погр. 1; Новый Кумак, кург. 21); «в пакете» (Альмухаметово, кург. 10, погр. 2); без черепа (Филипповка 2, кург. 1, погр. 2); захоронения расчлененных частей тел (Переволочан I, кург. 8; Перево-лочан II, кург. 2, погр. 1); захоронения в подземных ходах кургана (Филипповка 1, кург. 13, кург. 28). Некоторые погребенные были обнаружены в «атакующей» (Филипповка 1, кург. 15, погр. 4; кург. 16, погр. 2; кург. 28; кург. 29, погр. 4; кург. 30, погр. 3) и «танцующей» позе (Переволочан I, кург. 11, погр. 1), а также в «позе всадника» (Филипповка 1, кург. 2, кург. 23, погр. 2; Лебедевка VI, кург. 15).
Наиболее интересным с точки зрения способа захоронения является погребение мужчины, совершенное в могильной яме 1 кургана 16 могильника Филипповка 1: в северном борту разграбленной погребальной камеры была обнаружена непотревоженная ниша, на дне которой находилось скопление человеческих и лошадиных костей. Исходя из положения костей позвоночника, лопаток и костей грудной клетки человеческого скелета, создавалось впечатление, что погребенный лежал ничком. Автор раскопок предположил, что тело мужчины было установлено в нишу в вертикальном положении и упало на дно, ког- да ниша еще оставалась полой [Яблонский, 2008, с. 199].
«Необычное» обращение с телом умершего было зафиксировано в кургане 13 того же могильника. У входа в могильную яму, на дне подземного хода, был обнаружен череп человека в сочленении с нижней челюстью и двумя первыми шейными позвонками: это была голова человека, установленная лицевой частью на север. Согласно Л.Т. Яблонскому, человеческая голова в подземном ходе могла быть связана с какими-то жертвенными действиями, проводимыми в процессе погребального ритуала [Яблонский, 2008, с. 199].
Подобный характер погребения был отмечен при раскопках кургана 28 могильника Филипповка 1, в центральной части подземного хода которого, было обнаружено захоронение молодого «воина» с кинжалом и наконечниками стрел, синхронизирующее это захоронение с основным погребением [Яблонский, 2008, с. 199].
Предполагаемое человеческое жертвоприношение было обнаружено в могильнике Переволочан I (кург. 11, погр. 7), где в центральной части кургана, рядом с основным погребением был захоронен мужчина, кости ступней которого были сдвинуты вместе (связаны?). Затылочная часть черепа имела пробоину округло-подквадратной формы, рядом с ней фиксировались следы от ударов рубящим орудием. Никаких предметов погребального инвентаря вместе с ним не обнаружено. По мнению С.В. Сиротина, это погребение было связано с центральным погребением и совершено до засыпки надмогильного сооружения [Сиротин, 2010].
Сопроводительным захоронением возможно являлось безынвентарное погребение 2 из кургана 12 того же могильника, в котором умерший был похоронен на животе, с «заведенными» за спину руками [Сиротин, 2008, с. 139].
Остальные захоронения в положении ничком не имели каких-либо отличительных черт, позволявших характеризовать их как вспомогательные (Филипповка 1, кург. 29, погр. 2, кург. 16, погр. 1; Лебедевка V, кург. 9, погр. 5).
В отличие от выборки «девиантных» захоронений второй половины VI – V в. до н.э., в памятниках конца V–IV вв. до н.э. встречались погребения расчлененных частей тел. В погребении 1 кургана 2 могильника Переволочан II, вероятно, были захоронены части погребенного, сочлененные в анатомическом порядке [Сиротин, 2009, с. 25; 2011] 5. Ранее похожая картина отмечалась в кургане 8 могильника Перево-лочан I [Пшеничнюк, 1992, с. 10].
Интересные результаты были получены при исследовании погребения 3 кургана 1 Ивановского I могильника. Череп погребенного был определен антропологами как мужской, а таз как женский. Антропологические определения были подтверждены результатами генетических анализов. Исследователями выдвигалось предположение, что в момент захоронения, голова, принадлежащая мужчине, была плотно приставлена, или возможно пришита к безголовому туловищу женщины [Богданов и др., 2006, с. 42].
Погребенные в «атакующей» позе были обнаружены только в захоронениях могильника Филипповка 1 и почти все относились к погребениям кочевой знати, в четырех из пяти случаев в «атакующей» позе были погребены женщины. Можно сделать предположение о существовании, в рамках данного могильника, традиции захоронений женщин высокого статуса в такой позе. Погребение мужчины в «атакующей» позе было обнаружено только в коллективном захоронении этого могильника (кург. 28, скелет 1).
Захоронения в «позе всадника» были обнаружены в трех случаях, в двух из которых были погребены мужчины. По составу инвентаря и признакам погребального обряда, можно заключить, что погребенные в позе «всадника» не отличались признаками высокого социального статуса.
Результаты и обсуждение
«Девиантные» захоронения кочевников Южного Урала второй половины VI – IV в. до н.э. представлены следующими вариантами: в положении ничком; в «необычных» позах (в положении сидя или стоя); без голов или черепов отдельно; трупосожжениями; расчлененные тела; в «пакете».
Трупосожжения, захоронения в положениях на боку и/или скорченно обнаружены только в памятниках второй половины VI –
V в. до н.э. А погребения расчлененных частей тел, «в пакете» и в положении сидя или стоя – только в памятниках конца V – IV в. до н.э.
Отдельному рассмотрению в данной статье подверглись погребения, совершенные в позах «всадника», «атакующей» и «танцующей». В большинстве случаев они совершались по всем канонам погребального обряда ранних кочевников Южного Урала второй половины VI–IV вв. до н.э. и, вероятно, являются одним из вариантов «нормы». Несмотря на существующее представление, что некоторые из этих поз маркируют высокий социальный статус, проанализированные нами погребенные в указанных позах относились к разным социальным группам кочевого общества, в том числе и к числу «рядового» населения.
Поза погребенных на животе редко встречается в памятниках ранних кочевников Южного Урала, поэтому сложно сделать какие-либо выводы относительно возможных закономерностей или причин их совершения. В некоторых случаях погребенные ничком отличались от других погребений (по отсутствию погребального инвентаря, сравнительно небольшим размерам могильных ям и пр.), а в других – почти ничем не отличались, кроме положения тел погребенных, при том, что все остальные обрядовые традиции были соблюдены.
В рамках данного исследования были выявлены случаи захоронений отдельных частей погребенных во второй половине VI – Vв. до н.э. (Кырык-Оба II, кург. 18) и погребения расчлененных тел в памятниках конца V – IV в. до н.э. (Переволочан I, кург. 8; Переволочан II, кург. 2, погр. 1). По мнению Ю.А. Смирнова, разрушение или сохранение анатомического порядка погребенных могло зависеть от социального положения захороненных, обстоятельств их смерти или других причин [Смирнов, 1997, с. 126]. К появлению расчлененных погребений могли приводить также ритуальные расчленения в ходе военных столкновений, обряды обезвреживания покойного и человеческие жертвоприношения [Зайцева, 2005, с. 23–26].
Человеческие жертвоприношения должны иметь характерные отличительные черты, представленные различными «уничижительными» позами погребенных, например, «связанные» конечности. К косвенным свидетель- ствам принесения человека в жертву относятся признаки, указывающие на насильственный характер смерти, проявлением которых является наличие следов от повреждений или ударов. Еще одним основанием для выделения человеческих жертвоприношений является наличие основного погребения, захоронению которого сопутствовали принесенные в жертву индивиды [Балабанова, 2011, с. 29–30].
Некоторые из рассмотренных погребений с «нестандартным» обрядом можно отнести к жертвоприношениям. Среди памятников второй половины VI–V вв. до н.э. человеческие жертвы, вероятно, были совершены в могильниках Кырык-Оба II (кург. 18) и Увак (кург. 2). Примечательно, что наибольшая часть вероятных жертвоприношений была обнаружена в памятниках V–IV вв. до н.э. (Филипповка 1, кург. 16, погр. 1; кург. 13; кург. 28; Переволочан I, кург. 11, погр. 7; кург. 12, погр. 2).
В захоронениях Южного Урала второй половины VI – IV в. до н.э. были обнаружены случаи «необычного» обращения с черепами или головами в кургане у пос. Целинный [Пше-ничнюк, 1977, с. 21], в могильниках Увак (кург. 2) [Смирнов, 1975, с. 56–57], Кырык-Оба II (кург. 18) [Гуцалов, 2011, с. 93] и Фи-липповка 1 (кург. 13) [Яблонский, 2008, с. 199].
Значительное внимание исследованию ритуалов обезглавливания в погребальных обрядах носителей сарматских культур Восточной Европы было уделено в работе М.А. Балабановой и Е.В. Перервы. Среди таких ритуалов они выделяют: обезглавливание, после которого голова либо помещалась в захоронение, либо где-то хранилась; парциальное захоронение черепа; трепанацию черепов, которая могла производиться после отделения голов или черепов от тел или скелетов для выполнения каких-либо ритуалов [Balabanova, Pererva, 2019, р. 132–134]. По мнению исследователей, у сарматских племен мог существовать культ черепа и, скорее всего, черепа могли использоваться в ритуальных целях [Balabanova, Pererva, 2019, р. 132].
О.В. Зайцева выделяла следующие причины захоронения голов / черепов: 1) человеческие головы играли особую роль в воинских ритуалах; 2) обряд погребения, при котором голова отчленялась от тела и хоронилась отдельно; 3) обычай сохранять черепа предков рода и шаманов; 4) вторичное захоронение, при котором погребались лишь черепа [Зайцева, 2005, с. 23–26].
В отдельную категорию «нестандартных» погребальных обрядов относятся тру-посожжения. М.А. Очир-Горяева отмечала, что трупосожжения «на месте» в памятниках Южного Приуралья производились путем засыпки погребения горящим костром или разведением костра в могиле. Такой обряд можно рассматривать как особый ритуал, который М.А. Очир-Горяева назвала обрядом очищения огнем, так как при этом не преследовалась цель сжечь покойника полностью. Поза и ориентировка погребенного при этом не отличались от «обычных» трупоположений [Очир-Горяева, 1987, с. 48–49].
В других погребальных памятниках кочевников раннего железного века Евразии тоже встречались «девиантные» погребения.
В некрополях Сакар-Чага 3–6 в Южном Приаралье были зафиксированы случаи захоронения расчлененных частей тел и погребения в скорченном положении, при том, что традиционно хоронили в вытянутом на спине положении [Яблонский, 1996, с. 20–50].
На поселениях VI–III вв. до н.э. в лесостепной части бассейна Дона анализировались находки разрозненных человеческих останков. Вероятно, появление на поселениях разрозненных костей было связано с погребальной практикой выставления трупов, которая применялась оседлым населением донской лесостепи наряду с другими похоронными обрядами [Разуваев, 2018, с. 11].
К некоторым из обычаев носителей боль-шереченской культуры Верхнего Приобья относились трепанация и скальпирование. Так, на черепах трех погребенных из курганного могильника Быстровка-2 были обнаружены следы воздействия режущим орудием, причем скальп снимали с уже отрезанной головы. Один из скальпированных погребенных был захоронен в мешке, в который были сложены кости, уже лишившиеся мягких связующих тканей [Троицкая, Новиков, 2011, с. 142].
Следы жертвоприношений зафиксированы в «поминальниках» таштыкской культуры, находящихся на площадках могильников. Здесь были обнаружены погребенные как уло- женные ничком, со связанными руками, так и расчлененные [Вадецкая, 1992, с. 244].
Проведенный анализ демонстрирует что, «девиантные» погребения встречаются на протяжении всей эпохи раннего железа в разных археологических культурах степных и лесостепных регионов Евразии. И вопросы изучения «неординарных» или «нетипичных» захоронений имеют широкий тематический охват, который отражен в работах многих исследователей.
Заключение
Черты «необычного» обращения с телами умерших прослеживаются как в погребениях представителей кочевой элиты, так и в захоронениях «рядового» населения. Не все захоронения индивидов, останки которых были обнаружены в «нестандартных» положениях, могут быть отнесены к «девиантным». При этом, если погребенных в положениях ничком или скорченно можно отнести к таковым, то захоронения индивидов в различных позах на спине, вероятно, следует считать одним из вариантов традиционного погребального обряда ранних кочевников. Обряд трупосожжения также, вероятно, является одной из разновидностей «нормы» погребальной практики южноуральских кочевников.
По результатам данного исследования не удалось выявить общих закономерностей, объединяющих рассмотренные «девиантные» захоронения. Среди погребений, совершенных «необычным» способом, встречались захоронения представителей разных половозрастных и социальных групп кочевого населения. К тому же, в памятниках ранних кочевников Южного Урала представлены разнообразные варианты «девиантных» погребений, и выделить для каждого из них универсальные черты пока не представляется возможным. На наш взгляд, «девиантные» погребения маркируют не какую-либо социальную группу, существовавшую внутри общества ранних кочевников, а являются отражением истории отдельных индивидов, погребенных, по ряду факторов, с отклонением от норм погребального обряда.
На появление «девиантных» захоронений могло повлиять множество причин, которые связаны как с системой верований исследуемого общества, так и с обстоятельствами жизни или смерти погребенных [Берсенева, 2016, с. 13; Hodgson, 2013].
Вероятно, по «девиантному» обряду хоронили индивидов, которые могли причинить вред живым (шаманы, колдуны, ведьмы, упыри и т. д.), приговоренных к смертной казни или принесенных в жертву [Рафикова, Фёдоров, 2017, с. 127–128]. Помимо этого, «девиантные» захоронения могут свидетельствовать о страхе перед мертвыми или самой смертью [Tsaliki, 2008, p. 1]. Некрофобия обычно проявляется в погребальной практике: 1) захоронениями останков частей тел (расчленение); 2) погребениями в сравнительно глубоких могилах; 3) перекрытиями тел или могил каменными плитами или другим весом; 4) костяками со следами декапитации [Tsaliki, 2008, p. 3].
На основе выводов других исследователей и результатов анализа рассматриваемого в данной статье материала можно выделить несколько факторов, которые предположительно могли влиять на совершение «девиантных» захоронений:
-
1) социальный статус погребенного или особый род деятельности и занятие;
-
2) обстоятельства смерти (сезон, место смерти, причина смерти и пр.), предполагавшие соблюдение «нетипичных» обрядовых мер при захоронении;
-
3) некрофобия;
-
4) принесение человеческих жертв и совершение сопутствующих захоронений;
-
5) захоронения «чужаков»: если предположить, что хоронить «необычным» способом могли представителей не своего общества, а людей, по какой-либо причине оказавшихся на момент смерти в этом обществе;
-
6) другие внешние факторы, которые могли привести к отказу от захоронения по традиционному обряду.
На данный момент состояние источников все еще заставляет воздержаться от категоричных суждений относительно предлагаемых способов толкования ритуальной практики, связанной с совершением «девиантных» захоронений. Чтобы лучше понять причины их появления, недостаточно одних археологических данных. Поэтому необходимо проводить дальнейшие исследования в рамках междисциплинарного дискурса с привлечением дополнительных источников.
Список литературы "Девиантные" захоронения ранних кочевников Южного Урала (вторая половина VI - IV в. до н.э.)
- Балабанова М. А., 2003. Реконструкция социальной организации поздних сарматов по антропологическим данным // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 6. С. 66–88.
- Балабанова М. А., 2011. Поза погребенных как объект археолого-этнографических исследований (по погребальным комплексам позднесарматского времени) // Погребальный обряд ранних кочевников Евразии: материалы VII Междунар. науч. конф. (11–15 мая 2011 г., Ростов-на-Дону, Кагальник). Материалы и исследования по археологии Юга России. Вып. III. Ростов н/Д: ЮНЦ РАН. С. 21–40.
- Берсенева Н. А., 2016. Подходы к интерпретации «девиантных» погребений в археологии // Развитие взглядов на интерпретацию археологического источника: материалы Всерос. науч. конф. М.: ИА РАН. С. 12–13.
- Богданов С. В., Пшеничнюк А. Х., Сиротин С. В., 2006. Ивановский курганный могильник в урочище Баюли-Тау // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. № 1–2. С. 33–53.
- Вадецкая Э. Б., 1992. Таштыкская культура // Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М.: Наука. С. 236–246.
- Гильмитдинова А. Х., 2021. Кочевое население Южного Урала второй половины VI – IV в. до н.э. (по данным археологии): дис. ... канд. ист. наук. М. 295 с. + Прил. (245 с.: ил.).
- Гуцалов С. Ю., 2004. Древние кочевники Южного Приуралья VII–I вв. до н.э. Уральск: [б. и.]. 136 с.
- Гуцалов С. Ю., 2010. Погребальные сооружения могильника Кырык-Оба II в Западном Казахстане // Российская археология. № 2. С. 51–66.
- Гуцалов С. Ю., 2011. Этнокультурная специфика могильника Кырык-Оба II // Российская археология. № 1. С. 81–96.
- Железчиков Б. Ф., Пшеничнюк А. Х., 1994. Племена Южного Приуралья в VI–III вв. до н.э. // Проблемы истории и культуры сарматов: тез. докл. Междунар. конф. (14–16 сент. 1994 г.). Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 5–8.
- Зайцева О. В., 2005. Погребения с нарушенной анатомической целостностью костяка: методика исследования и возможности интерпретации: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск. 29 с.
- Кадырбаев М. К., Курманкулов Ж. К., 1978. Погребение жрицы, обнаруженное в Актюбинской области // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 154. С. 65–70.
- Мошкова М. Г., 1972. Савроматские памятники Северо-Восточного Оренбуржья // Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири сарматского времени. МИА. № 153. М.: Наука. С. 49–78.
- Обельченко О. В., 1992. Культура античного Согда. M.: Наука. 256 с.
- Очир-Горяева М. А., 1987. Погребальный обряд населения Нижнего Поволжья и Южного Приуралья VI–IV вв. до н.э. // Археологические исследования Калмыкии. Элиста: КНИ ИФЭ. С. 35–53.
- Очир-Горяева М. А., 2018. Изображение процессии всадников на золотой обойме из Сибирской коллекции Петра I // Археология, этнография и антропология Евразии. Т. 46, № 4. С. 67–73. DOI: https://doi.org/10.17746/1563- 0102.2018.46.4.067-073
- Очир-Горяева М. А., 2019. Поза всадника по археологическим и этнографическим данным // Oriental Studies. № 5. С. 812–821. DOI: http://dx.doi.org/10.22162/2619-0990-2019-5-812-821
- Пшеничнюк А. Х., 1977. Научный отчет об археологической экспедиции ИИЯЛ Башкирского филиала АН СССР в 1977 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 6840.
- Пшеничнюк А. Х., 1992. Отчет об археологических раскопках и разведках на территории республики Башкортостан в 1991 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 16266.
- Разуваев Ю. Д., 2018. Находки человеческих костей на поселениях скифского времени в лесостепном Подонье // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 23, № 6. С. 6–17. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2018.6.1
- Рафикова Я. В., Фёдоров В. К., 2017. Погребения «брошенных» в культуре поздних сарматов Урало-Поволжского региона // Археологические источники и культурогенез: материалы IV науч. конф. «Ранний железный век Евразии от рубежа эр до середины I тыс. н.э.: динамика освоения культурного пространства (14–18 нояб. 2017 г.)». СПб.: Скифия-принт. С. 125–129.
- Симоненко А. В., 2012. Золото, конь и человек: сб. ст. к 60-летию А.В. Симоненко. Киев: КНТ. 464 с.
- Сиротин С. В., 2008. Исследования на курганном могильнике Переволочан в Зауральской Башкирии в 2007 г. (предварительное сообщение) // Ранние кочевники Волго-Уральского региона. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 136–139.
- Сиротин С. В., 2009. Отчет об археологических исследованиях в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан в 2008 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 43872.
- Сиротин С. В., 2010. Курган № 11 курганного могильника Переволочан в Зауральской Башкирии // Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий. М.: Таус. С. 323–337.
- Сиротин С. В., 2011. Исследования на курганном могильнике Переволочан II в Юго-Восточной Башкирии // Археологические открытия 2008 года. М.: ИА РАН. С. 383–384.
- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. Ранняя история и культура сармат. М.: Наука. 379 с.
- Смирнов К. Ф., 1975. Сарматы на Илеке. М.: Наука. 176 с.
- Смирнов Ю. А., 1997. Лабиринт: Морфология преднамеренного погребения: исслед., тексты, слов. М.: Вост. лит. 280 с.
- Таиров А. Д., 2000. Прохоровская культура Южного Урала: генезис и эволюция // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология: материалы IV Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Вып. 1. Самара: Изд-во Самар. науч. центра РАН. С. 16–28.
- Таиров А. Д., 2006. Этнокультурные процессы в степях Южного Урала во второй половине V – IV в. до н.э. // Российская археология. № 1. С. 71–78.
- Таиров А. Д., 2009. Этнокультурные процессы в Урало-Казахстанских степях в VI–V вв. до н.э. // Наука ЮУрГУ. Т. 1. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ. С. 173–177.
- Таиров А. Д., 2014. Сожжение как результат ограбления (по материалам Южного Зауралья) // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. II. Казань: Отечество. С. 241–243.
- Троицкая Т. Н., Новиков А. В., 2011. Народы и культуры скифо-сибирского мира. Новосибирск: Изд-во НГУ. 184 с.
- Флеров В. С., 2000. Аланы Центрального Предкавказья V–VIII веков: обряд обезвреживания погребенных. М.: Полимедия. 164 с.
- Яблонский Л. Т., 1996. Саки Южного Приаралья (археология и антропология могильников). М.: ИА РАН. 186 с.
- Яблонский Л. Т., 2008. Новые материалы к проблеме формирования культуры ранних кочевников Южного Приуралья // Вопросы археологии Урала: сб. науч. тр. Вып. 25. Екатеринбург ; Сургут: Магеллан. С. 194–207.
- Яблонский Л. Т., 2011. Погребальный обряд ранних кочевников Приуралья переходного времени и вопросы археологической периодизации памятников // Погребальный обряд ранних кочевников Евразии: материалы VII Междунар. науч. конф. (11–15 мая 2011 г., Ростов-на-Дону, Кагальник). Материалы и исследования по археологии Юга России. Вып. III. Ростов н/Д: ЮНЦ РАН. С. 234–240.
- Aspöck E., 2008. What Actually is a “Deviant Burial” Comparing German-Language and Anglophone Research on “Deviant Burials” // Deviant Burial in the Archaeological Record. Oxford: Oxbow Books. P. 17–34.
- Balabanova M.A., Pererva E.V., 2019. Special Rituals, Rites and Customs of Treatment of Human Bodies (A Case Study of Sarmatian Cultures) // The Lower Volga Archaeological Bulletin. Vol. 18, № 2. P. 125–144. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.8
- Hodgson J. E., 2013. “Deviant” Burials in Archaeology // Anthropology Publications. Paper 58. URL: http://ir.lib.uwo.ca/anthropub/58
- Tsaliki A., 2008. Unusual Burials and Necrophobia an Insight into the Burial Archaeology of Fear // Deviant Burial in the Archaeological Record. Oxford: Oxbow Books. P. 1–16.