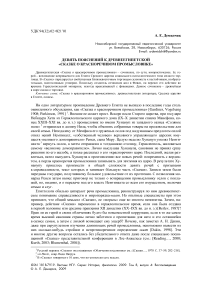Девять пояснений к древнеегипетской «Сказке о красноречивом промысловике»
Автор: Демидчик Аркадий Евгеньевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Древнеегипетская «Сказка о красноречивом промысловике» - сочинение, по сути, юмористическое. Ее герой - воплощение непривычного для Египта Среднего царства социального-психологического типа мелкого торговца. В «Сказке» пародируется свойственная ближневосточным торговцам склонность к настойчивым, изобретательным, многословным уговорам. Поскольку создатель сочинения жил в Фивах, он перенес его действие во времена Гераклеопольской монархии, некогда враждовавшей с фиванцами. Данное сочинение - древнейшая в мире сказка о торговце.
"сказка о красноречивом промысловике", древнеегипетская литература, среднее царство в египте, оазисы
Короткий адрес: https://sciup.org/14737111
IDR: 14737111 | УДК: 94(32).02+821'01
Текст научной статьи Девять пояснений к древнеегипетской «Сказке о красноречивом промысловике»
Ни одно литературное произведение Древнего Египта не вызвало в последние годы столь оживленного обсуждения, как «Сказка о красноречивом промысловике» [Gardiner, Vogelsang 1908; Parkinson, 1991] 1. Внешне ее сюжет прост. Вскоре после Старого царства, при государе Небкаура Хети из Гераклеопольского царского дома (IX–X династии списка Манефона, конец XXIII–XXI вв. до н. э.) промысловик по имени Хунануп из западного оазиса «Соляное поле» 2 отправился в долину Нила, чтобы обменять собранные товары на продовольствие для своей семьи. Неподалеку от Мемфиса его груженых ослов под надуманным предлогом силой отнял некий Немтинахт, «собственный человек» верховного управляющего царских иму-ществ «великого домоправителя» Ренси, сына Меру. Целую неделю Хунануп умолял Немти-нахта 3 вернуть ослов, а затем отправился в тогдашнюю столицу, Гераклеополь, жаловаться самому «великому домоправителю». Лично выслушав Хунанупа, сановник не принял сразу решения по его жалобе, а позже рассказал о его «красноречии» царю. Последний, желая развлечься, велел вынудить Хунанупа к произнесению все новых речей: повременить с вердиктом, а перлы красноречия промысловика записывать для зачтения их царю. В результате Ху-нанупу пришлось произнести в общей сложности девять речей с призывами к справедливости, текст которых и занимает бóльшую часть «Сказки». Записи затем были переданы государю, получившему большое удовольствие от их прочтения. С позволения монарха Ренси затем вынес приговор не только о возвращении промысловику ослов с поклажей, но, видимо, и о передаче под его власть Немтинахта со всем его имуществом, включая семью и слуг.
Египтологи обильно цитируют речи промысловика, реконструируя по ним древнеегипетское понимание справедливости и миропорядка- маат . Но опытные специалисты при этом признают, что общий замысел «Сказки», ее «мораль» еще во многом непонятны. Зачем, например, действие «Сказки» перенесено в гераклеопольское время, если она была создана в первой половине или средине правления XII династии (XX–IXX вв. до н. э.) [Berlev, 1987]? Прав ли ее герой в своих обличениях будто бы повсеместной коррупции, если в то же самое время высший сановник страны лично заботится о пропитании для него и его оставшейся в оазисе семьи, а затем с лихвой возмещает ему ущерб? Почему, как заметил А. Н. Дакин, даже при скрупулезном изучении длиннющих речей промысловика, невозможно вывести из них сколько-нибудь стройное и непротиворечивое определение маат [Dakin, 1998] . Эти и многие другие вопросы остались без убедительного ответа даже после специально посвященной «Сказке» представительной конференции в Лос-Анжелесе (см.: [Reading…, 2000; Kurth, 2003; Blumenthal, 2004]).
Для исчерпывающего решения данной проблемы замысла «Сказки» потребуется исследование в объеме монографии. Пока же автор лишь кратко перечислит важнейшие обстоятельства, объясняющие ее смысл и предназначение 4.
-
I. Странным образом пока не обсуждался всерьез вопрос о месте создания «Сказки». Между тем это, без сомнения, Фивы. На p. Butler (British Museum 10274) «Сказка» записана вместе с так называемыми «Речами рыбака» [Griffith, 1892], причем речи героев обоих произведений близки по стилю. Начало сочинения о «рыбаке» не сохранилось на p. Butler, но уцелело на verso папирусa № 1695 ГМИИ им. А. С. Пушкина 5: «Начало речи, произнесенной сыном Хори, рыбаком Южного города по имени Иуру» 6. «Южный город» – обозначение Фив, где, видимо, и было создано сочинение про «рыбака». Все другие рукописи «Сказки» происходят также из Фив, и, стало быть, именно этот город нужно считать местом ее создания. «Сказка о красноречивом промысловике» – « фиванская » память о Ге-раклеопольской монархии . К сожалению, на данное обстоятельство прежде не обращали внимание.
-
II. Ключевым для понимания «Сказки» является обозначение ее главного героя как «(этого) промысловика sxty (pn) ». Оно встречается в тексте не меньше 44 раз (!) 7, в то время как его имя собственное упоминается лишь однажды, в самом начале (P. Ramesseum A 1.1). Смысл данного обозначения распознан египтологией совершенно недостаточно. Даже в недавней статье Ф. Юнге дело свелось к заранее очевидному выводу, что sxty.w – «сельские жители, занятые сельскохозяйственным производством, крестьяне, но также рыбаки и птицеловы. Они – сельские жители, зависимые или же не зависимые от частных лиц и учреждений…» [Reading…, 2000. P. 177].
Для понимания «Сказки» мало знать, что sxty.w – люди, связанные с «пустошами»- sx.wt , т. е. с пространствами, не ставшими еще возделанной пашней и не занятыми крупными поселениями. Очень важно подчеркнуть, что в Среднем царстве такие лица считались ведущими сравнительно «вольный» образ жизни и потому вызывали подозрения или недовольство у государства, создававшего глобальную систему принудительного труда. В силу специфики земледелия Египта, занятые в нем массы мужчин были вынуждены на протяжении большей части года ежедневно соблюдать жесткий трудовой распорядок. Похожим образом, да еще с постоянным надзором над работниками, были организованы в Среднем царстве и большинство других профессий. Конечно, свои тяготы были и у занятий, связанных с понятием sxty . Согласно «Поучению Хети, сына Дуауфа», птицелов часто остается без добычи, а рыболов трудится на реке, кишащей крокодилами, и страх мучает его, даже когда получен предписанный улов. Но все же, говоря о птицеловах и рыбаках, «Поучение» не упоминает ни долгий рабочий день, ни строгих надсмотрщиков. По сравнению с большинством других работников, sxty.w – люди относительно «вольные».
К концу Среднего царства, с его жестким распорядком труда даже для чиновников, появились литературные сочинения, воспевающие привольную жизнь на прибрежных пустошах-sx.wt. Буколическое сочинение, названное Э. Х. Гардинером «Радости рыбалки и ловли птиц», частично сохранилось на recto одного из папирусов ГМИИ им. А. С. Пушкина [Caminos, 1956. P. 1–21. Pl. 1–7]. На уцелевших фрагментах только одной из его страниц трижды встречается словосочетание hrw nfr «хороший денек», означавшее беззаботное и праздничное времяпрепровождение [Caminos, 1956. Pl. 1, 2, 4, 5]. Жизнь sxty.w, как подчеркивал издатель текста, изображается здесь в красках несравненно более радостных, нежели в «Поучении Хети, сына Дуауфа»: «Герой пребывает в восторге оттого, что, прихватив снаряжение, он вновь направляется в угодья для ловли птиц и рыбалки. Ему на ум приходят мысли о хорошей жизни промысловиков, навевая воспоминания о времени, когда и сам он жил вдали от города и был волен делать, что хочется, и странствовать беспрепятственно» [Caminos, 1956. P. 5] 8.
Герой же нашей «Сказки» – sxty (pn) «(этот) промысловик» – избавлен от принуждения и надзора даже больше, чем даже sxty.w , трудившиеся в Долине. Он проживает далеко от центров государственности, в западном оазисе «Соляное поле». Номинально эта земля находилась под властью царя, но титулы ведавших оазисами чиновников Среднего царства показывают, что скапливавшееся там население не казалось египетским властям вполне таким же, как в Долине. Контроль государственной администрации над оазисами был заметно слабее, и туда устремлялись всякого рода «неблагонадежные» и укрывающиеся от повинностей [Aufrere et al., 1994. P. 18, 41, 44, 45; Kees, 1977. S. 71]. Попытки властей пресечь бегство трудового населения в оазисы к вольной жизни фиксируются в письменных источниках на протяжении всего времени, начиная с Первого переходного периода (см.: [Anthes, 1930; Fischer, 1957. P. 228; Limme, 1973. P. 41, 42]). Но, по мнению У. Хэйса, даже и после объединения Египта Ментухотепом I «западные оазисы, хоть они и находились под египетским надзором, еще не являлись частью территории на деле управлявшейся фараоном, и логично поэтому, что они были убежищами ускользнувших преступников и врагов государства» [Hayes, 1971. P. 21]. «Естественно, что в оазисах собирался всякий сомнительный народ, уклонявшийся от государственного контроля», – подчеркивал Г. Кеес [Kees, 1977. S. 71; Fischer, 1957. P. 228].
Но даже в такой глухомани главный персонаж «Сказки» числился « sxty », т. е. соприкасался с деятельностью государства меньше всех остальных. Читатели времени Среднего царства поэтому не могли не понимать, что герой сочинения, хоть номинально и является египетским подданным, фактически избавлен от повинностей, гнетущих трудовое население Долины. Показательно, что и знаменитый Синухет на протяжении долгих лет, когда он самовольно покинул страну и отлынивал от должностных обязанностей, числился в списках «Дома царя» как sxty 9.
-
III. «Сказка о красноречивом промысловике» создана в пору необычайно широкого применения системы государственного принудительного труда, тяжелейшей формой которого были так называемые «царские работы». Египтяне всеми способами стремились уклониться от этой повинности – вплоть до бегства из Нильской долины [Демидчик, 1999]. А чтобы избавиться от нее и в потустороннем мире, даже были придуманы специальные фигурки-«ушебти», магическим образом принуждавшиеся трудиться на Осириса вместо усопшего.
Государство не брезговало никакими способами, чтобы прекратить или хотя бы частично восполнить утечку необходимой для «царских работ» рабочей силы. Показательным проявлением этого стал институт «взятых», «схваченных» ( iwAi.w ) , привлекавшихся к работам вместо уклоняющихся и беглецов [Демидчик, 2006]. Одной из ключевых фигур в этой системе принудительного труда был «великий домоправитель (царя)», которому подчинен отнявший у промысловика груженых ослов Немтинахт.
-
IV. В праве Нового царства лицо, виновное в краже, приговаривалось к возврату похищенного и штрафу в размере двух- или трехкратной стоимости украденного. Наказание за кражу скота, видимо, было даже суровее [Лурье, 1960. С. 118]. Соответствующие нормы Среднего царства неизвестны, но едва ли они были много мягче.
Однако, под смехотворным предлогом захватывая ослов Хунанупа, Немтинахт явно не предполагает, что власти выступят в защиту промысловика 10. Как и читатели «Сказки», он пока уверен, что Хунануп предпочтет смириться с любыми утратами, лишь бы не встречаться с чиновниками, готовыми привлечь его к «царским работам». Даже государю Небкау-ра Хети было будто бы известно, что промысловики из оазисов всеми способами избегают таких встреч и, крадучись, приходят в долину Нила лишь в случаях крайней нужды [Parkinson, 1991. P. 20]. Надписи от царствования Аменемхата III показывают, что нижнеегипетских промысловиков, к которым мог быть причислен и Хунануп, подчас угоняли на царские работы по добыче бирюзы в Синайской пустыне [Gardiner, Peet, 1952. Pl. XXXV (106), XXXVI (114)].
Для беспрепятственного перемещения по стране без риска быть обвиненным в уклонении от предписанных государством работ в Среднем царстве, видимо, требовался специальный документ, которого у Хунанупа явно не было 11. Лицо же, признанное виновным в бегстве с «царских работ», приговаривалось к пожизненному труду на государственных полях «навеки» [Hayes, 1955. P. 35–58]. Казалось бы, в такой ситуации трудно было ожидать, что Ху-нануп осмелится явиться в столицу к самому «великому домоправителю», чтобы подать жалобу на Немтинахта.
-
V. «Соль» «Сказки» состоит, однако, в том, что Хунануп – не только «промысловик», но, по меркам Среднего царства, еще и «торговец». Некоторые из привезенных им товаров не могли быть добыты в самом Соляном оазисе и, видимо, были доставлены туда обитателями пустыни. Кроме того, в «Сказке» прямо указывается, что в нильскую долину Хунануп периодически спускался именно для обмена. Между тем в Египте Старого и Среднего царства оптовая торговля, видимо, отсутствовала, а розничная была развита очень слабо. Примечательно, что изображения сцен торговли в Старом царстве встречаются только на столичных кладбищах и лишь в период между царствованиями Усеркафа и Пепи I 12. В гробницах же Среднего царства сцены торговли, по существу, отсутствуют. Так что по меркам этого времени Хунануп должен был представляться «торговцем», даже «торгашом» 13.
-
VI. Судить о том, как египтяне того времени представляли себе особенности поведения торговцев, можно лишь по немногочисленным изображениям обмена и подписям к ним в гробницах Старого царства. Но сразу бросается в глаза, что в большей части случаев «торговцы» показаны говорящими. По мнению египтян, важнейшая составляющая этого занятия – словесное воздействие на контрагентов, требующее умения привлекать и убеждать. «Торговцы» крикливы 14 и порой очень изобретательны в стремлении обратить внимание на свой товар. Шедевр среди таких призывов – выкрики продавца зеркала в гробнице Кагемни, привлекающие внимание покупателей веселой загадочностью: «Смотри, прекрасное ухо ( imdr ) для ртов!» [Wreszinski, 1923–1942. Tl 3. Bd 11. Tf. 117]. Каламбур создавался схожестью звучания «зеркало ( anx ) и двойственного числа существительного «ухо» – «(два) уха ( anx.wy )» 15.
Когда же клиент подходит, продавцы не ограничиваются одним только указанием цены. Тотчас еще раз называют вещь, которую покупатель за нее получит. Таким образом, опасение утраты у него должно смениться предвкушением приобретения: «дай твою вещь за очень сладкие фрукты!»; «вот, хлебцы-шемеду! Шесть из них – за две меры пшеницы», «давай твою вещь, и я дам (взамен) превосходную зелень!» [Moussa, Altenmüller, 1977. Tf. 24. Fig. 10, 26. С. 71, 82–84]; «клади же (лепешку), и я дам тебе прекрасные луковицы!» 16; «Смотри, посох просушенный и очень хороший, (только) пожелай, незнакомец 17! А за него – меру пшеницы» [Wreszinski, 1923–1942. Tl 3. Bd 3. Tf. 35]; и т. д. При этом вещь не только называется, но и расхваливается. Во-первых, подчеркиваются ее высокое качество и полезные свойства. Во-вторых, покупателю советуют скорее воспользоваться предлагаемой вещью и предсказывают, как он будет при этом наслаждаться [Hassan, 1938. Pl. XCVI; 6. P. 387]. В гробнице Кагемни продавец посохов, прибегая к тому, что сегодня назвали бы «психоло- гическим прессингом», не дает покупателю времени на раздумья: «Ты скажи! Разве ты не торопишься? Это превосходный болотный посох 18!» [Wreszinski, 1923–1942. Tl 3. Bd 11. Tf. 117].
Заметны на изображениях и попытки «индивидуального подхода» к покупателям: владельца гробницы называют по имени, к ремесленникам уважительно обращаются «мастер» [Hodjash, Berlev, 1982. P. 33, 35, 38, 39, № 3, M; 42; Wreszinski, 1923–1942. Tl 3. Bd 11. S. 117, 118; Badawy, 1978. P. 20. Pl. 33, 34; Hassan, 1938. Pl. XCVI]. Покупателя уверяют, что именно ему данное украшение очень идет [Lepsius, 1849–1959. Tf. 96]. Применяется и прямая лесть: «О мастер, ты что муж благодетельный!» [Wreszinski, 1923–1942. Tl 3. Bd 11. Tf. 118. S. 294, 295; Badawy, 1978. P. 20. Pl. 33, 34]. Порой продавцы стремятся вызвать у покупателей сочувствие к своей нелегкой доле: «Я (так тяжко) нагружен, о, мастер!» [Hodjash, Berlev, 1982. P. 33, 35, 38, 39, № 3, M; 43].
Лучшие знатоки египетской словесности уже не раз отмечали, что речи Хунанупа не имеют ничего общего с древнеегипетскими представлениями об истинном красноречии. Внесший огромный вклад в изучение «Сказки» А. Х. Гардинер оценил их как «убогие по части содержания и топорные, напыщенные по форме». Уже одни только частые повторы «одинаковых слов… с различными значениями, показывают, что автор был кем угодно, но только не художником слова» [Gardiner, 1942. P. 75]. Примечательно, что в той же статье А. Х. Гардинер дал высокую оценку «Рассказу Синухета». Несоответствие речевого поведения Хунанупа важнейшим принципам древнеегипетской «риторики» убедительно показал М. Фокс [Fox, 1983].
-
VII. Однако совсем отрицать литературные дарования создателей «Сказки» невозможно. Собственно повествовательная часть сочинения, его сюжетная «рамка», «написана ясно, просто, живо» [Кацнельсон, 1976. С. 326]. Получается, что создатели «Сказки» намеренно вложили в уста «промысловика» речи, не соответствующие древнеегипетскому «хорошему вкусу», и отчасти прав был Г. Фехт, предположивший, что Хунануп – герой сатирический, а красноречие его – пародийное [Fecht, 1972]. С учетом сказанного выше о сценах обмена на стенах гробниц, трудно не предположить, что специфическое и пародийное «красноречие» Хунанупа есть по сути своей красноречие торговцев – «неправильное», но при этом подавляющее волю контрагентов и способное почти до бесконечности развлекать слушателей.
-
VIII. Интересующее нас сочинение – древнейшая сказка о торговце . Причем этот тип ближневосточного торговца, невероятно изобретательного и настойчивого в уговорах, сохраняется в Египте и сегодня.
Подлинная «завязка» «Сказки» состоит в том, что, отнимая у, казалось бы, беззащитного Хунанупа ослов, Немтинахт не учел готовность и способность людей этой профессии к неустанному уламыванию визави даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Прокричав десять дней у дома обидчика, торговец не побоялся затем подать жалобу к самому «великому домоправителю» Ренси в Гераклеополе. При этом в своем «красноречии» он был столь занимателен, что Ренси даже благосклонно обмолвился о нем царю. Принесенные затем девять речей «промысловика» – великолепная пародия на «базарное» красноречие, с захлестывающим слушателя потоком цветистых фраз, крикливыми переходами от неумеренной лести к яростным обличениям, с пышными самовосхвалениями и горькими жалобами, с бессмысленной, но завораживающей игрой слов, и т. д. Благодаря своей настойчивости, даже нахрапистости, и невероятной – по древнеегипетским меркам – способности к экспрессивному «речеиспусканию» торговец сумел не только вернуть свое имущество, но, видимо, получил от «великого домоправителя» и должностное имущество Немтинахта.
-
IX. Как бы там ни было, государство, в котором процветали подобные нравы, а при должностях оказывались подобные Немтинахту или Хунанупу, не могло вызывать у египтян большого уважения. Поэтому фиванские создатели «Сказки о красноречивом промысловике» и поместили эту историю в Гераклеопольское царство. Напомню, что первые фиванские цари
враждовали с царским домом Гераклеополитов и что именно с победой над последними было связано небывалое возвышение Фив.
NINE POINTS ABOUT THE ANCIENT EGYPTIAN «TALE OF THE ELOQUENT PEASANT»