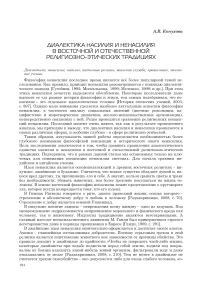Диалектика насилия и ненасилия в восточной и отечественной религиозно-этических традициях
Автор: Конухова Анастасия Валерьевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Философия и социология
Статья в выпуске: 3 (21), 2012 года.
Бесплатный доступ
В работе исследуется диалектика насилия и ненасилия на материале восточных и отечественной религиозно-этических традиций. Сравниваются подходы к проблематике насилия и ненасилия, сложившиеся в индуизме, джайнизме, конфуцианстве, буддизме, православии и некоторых других учениях. Автор приходит к выводу, что диалектика насилия и ненасилия принимает в данных системах различные формы. Отечественная традиция наиболее свободна от односторонних карикатурных трактовок ненасилия, и, следовательно, может служить для осмысления диалектической взаимосвязи насилия и ненасилия в современном мире. Этический идеал, направленный на мирное сосуществование и уменьшение жестокости является общим для всех рассмотренных систем.
Диалектика, ненасилие, насилие, восточные религии, воинская служба, православие, этические учения
Короткий адрес: https://sciup.org/144153527
IDR: 144153527
Текст научной статьи Диалектика насилия и ненасилия в восточной и отечественной религиозно-этических традициях
Философия ненасилия последнее время является всё более популярной темой исследования. Как правило, принцип ненасилия рассматривается с помощью диалектического подхода [Гусейнов, 1992; Москалькова, 1999; Мелешко, 1999; и др.]. При этом этика ненасилия зачастую выделяется обособленно. Некоторые исследователи даже выносят ее «за рамки» истории философии и этики, тем самым подчёркивая, что ненасилие — это отдельное идеологическое течение [История этических учений, 2003, с. 897]. Однако мало внимания уделяется наиболее актуальным аспектам философии ненасилия, в частности анализу социальных явлений (цветные революции, пацифистские и миротворческие движения, эколого-ненасильственные организации), непосредственно связанных с ней. Редко проводится сравнение религиозных концепций ненасилия. Последний момент очень важен, так как в результате проведенного анализа, мы приходим к выводу, что диалектика насилия и ненасилия проявляется в самых различных сферах, и особенно глубоко — в сфере религиозно-этической.
Таким образом, актуальность нашей работы определяется необходимостью более глубокого понимания философской концепции и исторического опыта ненасилия. Цель исследования заключается в том, чтобы сравнить проявления диалектического единства насилия и ненасилия в восточной и отечественной религиозно-этических традициях. Подчеркнем, что в рамках данной статьи мы остановимся только на ключевых для понимания концепции ненасилия системах. Для начала сравним индийские и китайские учения.
Идея ненасилия является основополагающей в древних восточных религиях — индуизме, джайнизме и буддизме. Считается, что всякое существо обладает душой и, нанося вред другому, ты причиняешь зло и себе. А значит, нельзя срывать цветы и траву без необходимости, убивать животных, тем более греховно покушаться на жизнь человека. В основе восточной философии ненасилия лежит представление о круговороте зла, которое всегда возвращается тому, кто его содеял.
В Гимнах Ригведы говорится о рите, законе праведной жизни, основа которого — стремление к абсолютному добру и любовь к человеку [Радхакришнан, 2008, с. 70]. Стремление к добру является основой Упанишад.
В индуизме понятие ахимсы — невреждения всему живому — одно из ведущих. Под «невреждением» подразумевается непричинение морального и физического вреда как человеку, так и животному. Индуисты традиционно являются вегетарианцами. А главный идеолог ненасильственного движения М. Ганди был приверженцем строгого вегетарианства даже в периоды проживания в Европе [Ганди, 1969, с. 291].
В джайнизме идея ненасилия окончательно оформляется и достигает своего апогея. Ахинса — главнейшая составляющая добродетели. Поэтому серьезным грехом в этой религии является уничтожение животного вне зависимости от причины убийства. Это правило доходит в джайнизме до крайности: «Чтобы не повредить чьей-либо жизни, некоторые джайнисты при ходьбе подметали перед собой землю, ходили под покрывалом из боязни вздохнуть какой-нибудь живой организм, фильтровали воду и даже отказывались от меда» [Радхакришнан, 2008, с. 210]. Тем не менее в джайнизме не считается грехом самоубийство - оно допускается либо для очень слабого человека, ко- 194
торый не может бороться со своими страстями, либо для уже очистившегося и подготовившего себя для ухода в другой мир.
В системе йоги ахимса также первостепенная добродетель, «даже самозащита не может оправдать убийство» [Радхакришнан, 2008, с. 696]
Итак, мы видим, что основные индийские религии провозглашают закон абсолютного ненасилия. Однако тождественно ли в этом случае абсолютное ненасилие абсолютному благу? По закону диалектического противоречия, нет чистого насилия и чистого ненасилия, более того, они всегда «переходят» друг в друга. Следовательно, абсолютное ненасилие в данном случае в некоторой степени является насилием. Это предположение убедительно доказывает практика джайнизма, где соблюдение правил ненасилия становится насилием над волей человека, доходящим до абсурда.
Крайности появляются в данных религиозных концепциях и при рассмотрении процессов защиты или самозащиты человека, так как умение остановить зло, исходящее от нападающего, считается в них насилием.
Парадоксально, но в индийских религиозных системах присутствует скрытое насилие.
Иначе понятие ненасилия раскрывается в буддизме, где оно по-прежнему имеет первостепенную важность, однако претерпевает некоторые изменения. Эта трактовка особенно актуальна, так как на сегодняшний момент буддизм перестал быть восточной конфессией и широко распространяется по всему миру. В буддизме на первом плане стоит не четкое (даже в мелочах) соблюдение ненасильственного закона, а любовь, альтруизм и сострадание по отношению ко всему живому. В буддизме считается, что человек, спасающий другого от смерти, пусть с применением насилия против нападающего, на самом деле совершает ненасильственный поступок. Такой взгляд наиболее близок нашей отечественной традиции.
Теперь перейдём к китайским этическим традициям, хорошо представленным в трудах двух известных восточных мыслителей — Конфуция и Лао-Цзы. Поэтому в нашей работе ограничимся кратким исследованием их идей, ставших основой конфуцианства как этического учения и даосизма как религии (важнейший обет которой — не убивать живых существ).
В этике Конфуция важное место занимает «вечное» золотое правило нравственности, а одним из его ключевых терминов является «жэнь» (человечность, служение, посредничество) [Маслов, 2006, с. 9] Примером могут служить такие его изречения: «Устремленность к человечности освобождает от всего дурного»; «В пути Учителя одно лишь сострадание до глубины души» [Конфуций, 2007, с. 30].
Тем не менее, как считает А. Маслов, есть и примеры жестокости, связанные с жизнью Конфуция, а понятие «жэнь» далеко от того, что на западе называют «гуманностью», это скорее некое правильное посредничество между небом и землёй, справедливость, следование государственным законам [Маслов, 2006, с. 9]. И здесь ненасилие пересекается с насилием. За покорностью подчиненных, следованием исключительно государственной выгоде скрывается насилие; происходит «смешение» насилия и ненасилия в образе идеального для Конфуция правителя — гуманного, но строго исполняющего законы и чтущего интересы государства прежде всего.
Однако во многих изречениях Конфуций настоятельно советует своим ученикам стремиться к добру и добродетелям. Следовательно, в подтексте его слов мы видим один из первых шагов к формированию понятия «ненасилие». Однако отождествлять «жэнь» Конфуция и современные понятия о человечности и ненасилии было бы неверно.
О диалектике добра и зла, насилия и ненасилия пишет Лао-Цзы: «Войско сильно, пока движется. Насилие не обернётся миром, пока не встретит насилия. Искусный побеждает^ и не кичится, побеждает и спокоен» [Лао-Цзы, 2002, с. 24]. Мудрость философа заключается в раскрытии зависимости друг от друга этих полярных начал. При определённых условиях насилие и ненасилие как бы «перетекают» одно в другое, грани между ними стираются. Большинство трактатов Лао-Цзы так или иначе подра- зумевают взаимодействие различных начал, постоянную смену полюсов. Он говорит о некоем высшем законе, основанном на единстве и борьбе противоположностей и их переходе друг в друга. В подтексте произведений Лао-Цзы мы видим его теорию ненасилия: «Аналогия с миром человеческих поступков, целесообразностью силы в отношениях между людьми, напрашиваются здесь сами собой: сила оказывается бессильной против зла; зло победимо только нежностью и уступчивостью...» [Мелешко, 1999, с. 33]
Принципы Лао-Цзы, как верно пишет он сам в «Даодэцзин», одновременно очень просты и очень сложны для понимания. Как и в других религиозных трудах, это притчи, которые можно истолковать по-разному. В частности, к известной интерпретации их Толстым мы отнеслись бы с осторожностью. С его точки зрения, «основа учения Лао-Тзе одна и та же, как основа всех великих, истинных религиозных учений». Это, конечно, верная мысль. «Но... каждый человек ощущает себя еще и бестелесным духом, таким же, какой живет во всяком существе, и дает жизнь и благо всему миру» [Лаоцзы, 2008, с. 320], в чем и есть смысл учения Лао-Цзы по Толстому. И такой взгляд Толстого был бы абсолютно правильным, если бы он излагал в своей статье о китайском философе одну из сторон его учения. Но Толстой абсолютизирует эту сторону, подменяя многообразие, объемность и глубину притч Лао-Цзы своим собственным односторонним, метафизическим подходом, который свойственен философии ненасилия Толстого в целом.
«Для Лао-цзы речь идет о том, чтобы человек посредством элементарного мышления пришел к духовному отношению к миру и сохранил в ходе всей своей жизни это единение с ним», — пишет о Лао-Цзы А. Швейцер [Лаоцзы, 2008, с. 359].
Таким образом, мы проследили эволюцию взгляда на ненасилие в восточных системах и диалектического подхода к этому понятию: от правила абсолютного ненасилия в индийских религиях до закона взаимодействия добра и зла у китайских философов Конфуция и Лао-Цзы.
В отечественной православной религиозной традиции мы находим совсем иное, отличное от восточного понимание принципа ненасилия: человек имеет полное право защитить слабого, который по каким-либо причинам подвергается нападению, и такой поступок не будет противоречить правилу об отношении к врагам, заповеданному в Евангелии. Испокон веков слова о непротивлении Иисуса Христа из Нагорной проповеди Русская православная церковь неразрывно связывала с любовью к ближнему: «Сотворить добро по отношению к подвергающемуся нападению я могу только избавлением его от угрожающего ему зла. Но где предел этому противлению? Должен ли я противиться злому с самоотвержением, с опасностью для моей и его жизни? На эти вопросы отвечает Сам Христос, говоря: «Нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих» (Иоанн, XV, 13) „.принесение христианином самого себя в жертву злобе разбойника будет бесцельным...» [Гладков, 2000, с. 238]. Любовь и жертвенность человека, желание спасти ближнего пусть даже ценой своей жизни становятся здесь важнейшей частью понятия о ненасилии.
За таким пониманием является глубокое познание психологических механизмов человеческой природы. Самоотверженность противостоит эгоизму. А что такое эгоизм, как не скрытое насилие? Большинство существующих пороков так или иначе связаны с эгоизмом. Чрезмерная привязанность человека к себе и своим эгоистическим желаниям порождает массу негативных эмоций, несущих агрессию [Орлов, 1991, с. 9]. Смирение и самопожертвование способны устранить их, привести к ненасилию.
Отметим, что данная трактовка в целом противоположна теории ненасилия Л.Н. Толстого, и не удивительно, что она стала причиной полемики многочисленных русских философов с ним. Достоинства и недостатки концепции Толстого глубоко анализирует В.С. Соловьев [Соловьёв, 1990], не соглашается с Толстым Бердяев [Бердяев, 1990], резко критикует его И.А. Ильин [Ильин, 2005] и другие русские религиозные мыслители.
В этом случае мы видим принципиальное различие описываемых нами диалектических подходов: то, что у Толстого и в некоторых восточных религиях является ненасилием, в русской православной традиции считается насилием, и наоборот.
Конечно, убийство и в православии является тяжким грехом, вне зависимости от того, с какой целью оно совершено. Однако его тяжесть менее весома, если оно сделано исключительно с целью защиты Отечества. Поэтому благословляется институт армии, нравственной христианской основой которого должны быть любовь к Богу, царю и родной стране, а следовательно, воспитание храброго воина, ответственного гражданина и порядочного человека. История Русской православной церкви показывает, какую важную роль сыграла ее деятельность в освободительных войнах, увенчавшихся доблестными победами.
На Руси воинство называлось христолюбивым, а к военной службе относились почтительно. Более того, в русской истории немало примеров, когда сами священники становились воинами, в том числе участвовали в самых крупных отечественных войнах 1812 г. и 1941—1945 гг. Так, отец Василий Васильковский за свою верную службу в период войны 1812 г. получил «офицерскую награду — орден Св. Георгия Победоносца» [Григорьев, 2005, с. 238].
Принцип же ненасилия являлся и является беспрекословным в вербальном общении, в ситуациях, не связанных с непосредственной физической защитой и самозащитой человека, то есть, например, не отвечать бранью на брань. Может ли и при разговоре абсолютное ненасилие обернуться насилием? На наш взгляд, такие случаи возможны, но скорее в порядке исключения. Психология ненасилия убедительно доказывает эффективность ненасильственного общения, особенно для сглаживания или предупреждения конфликтных ситуаций [Бёрн, 1997].
В отечественной религиозной традиции диалектика насилия и ненасилия раскрывается именно через такое вербальное и физическое взаимодействие этих противоположных начал. Данное понимание зиждется на глубокой духовной основе, подтверждено философскими, этическими и психологическими научными исследованиями и даже самим историческим опытом нашей страны. Кроме того, на наш взгляд, отечественная концепция более реалистична: невозможно достигнуть абсолютного ненасилия, но есть вероятность уменьшить количество насилия в мире с помощью любви к ближнему и нравственному самосовершенствованию отдельной личности. Такая точка зрения пересекается с теорией А.М. Ковалёва, убедительно доказавшего наличие постоянной гармонии насилия и ненасилия в природе за счёт уменьшения первого [Ковалев, 2001].
Однако постараемся быть осторожнее в наших выводах, ибо, как мы подчеркиваем, нет четкого закона уменьшения — увеличения насилия либо степени его меры. Первостепенным является закон диалектического круговорота, взаимодействия насилия и ненасилия.
Этот круговорот хорошо прослеживается в даосизме и буддизме, а также в индийской религиозной мысли, проповедующей абсолютное ненасилие. Единство данной диалектической пары проявляется и в восточных, и в отечественной системах. Их объединяет этический идеал, направляющий людей к мирному сосуществованию и значительному уменьшению жестокости. Однако предполагаемые способы достижения идеала в каждой из систем свои. В отечественной традиции созданы хорошие предпосылки для того, чтобы избежать карикатурной трактовки идеала ненасилия.
Таким образом, диалектика насилия и ненасилия прослеживается во всех исследованных нами религиозно-этических системах и представлена в них по-разному, вплоть до возможности противоположных практических выводов.