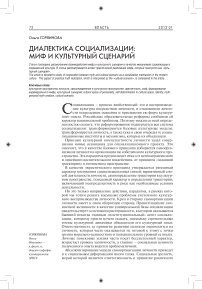Диалектика социализации: миф и культурный сценарий
Автор: Горяинова Ольга Ивановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению взаимодействия мифа и культурного сценария в качестве механизмов социализации в современной культуре. В статье рассматривается аспект практической реализации мифа, который трактуется как «культурный сценарий».
Культурное пространство личности, самоопределение в культурном пространстве, идентичность, миф
Короткий адрес: https://sciup.org/170166609
IDR: 170166609
Текст научной статьи Диалектика социализации: миф и культурный сценарий
С оциализация – процесс двойственный: это и воспроизведение культуры посредством личности, и становление личности посредством освоения и присвоения ею форм культурного опыта. Российские образовательные реформы сообщили ей характер национальной проблемы. Поэтому можно со всей определенностью сказать, что реформированию подвергается вся система социализации: трансформируются базовые культурные модели, трансформируется личность, а также (уже в свою очередь) те социа-лизационные институты и механизмы, которые их объединяли.
Принцип культурной компетентности личности задал совершенно новые основания для социализационного проекта. Это означает, что в качестве базового принципа избирается самоорганизация личности и организация ею собственного культурного пространства. Эта парадигма предполагает отказ от целенаправленного и линейного воспитательного воздействия, от принципа «заданной траектории» в личностном пространстве.
В качестве эвристического принципа утверждается ризомный характер построения социализационных связей: вариативный способ деятельности личности, самоопределение траектории в культурном пространстве, поисковый характер в определении траектории, включающий неопределенность и риск как необходимые условия деятельности.
ГОРЯИНОВА Ольга
Ивановна – к.филос.н., доцент кафедры культурологии МПГУ
Но это только направление действия, парадигма, в рамках которой мы хотим решать насущные проблемы системного культурного воспроизводства личности. Крен в сторону самоорганизации личности имеет и свою оборотную сторону. Провозглашение личностной активности в качестве универсальной базы социализации свидетельствует о состоянии растерянности, в котором оказывается бывший некогда главным «институциональный» агент социализации, которому просто нечего сказать, поскольку стремительные темпы культурной динамики обесценили его культурный опыт. Ответственность за принятие решения целиком переносится на личность, которая часто оказывается не готовой к этому с точки зрения морально-ценностного и познавательного уровней ее опыта. Личные поисковые усилия часто носят бессистемный характер, возрастает уровень хаотичности, а главное – социальная ценность полученного опыта видится проблематичной.
Абсолютизирование модели самоорганизации личности приведет и к социальным деформациям иного толка. Социальная зрелость, мерой которой является ответственность и принятие различного рода необходимостей как заданного пространства действия, отсрочивается за счет получения дополнительного образования, освоения новых практик и т.д. Принцип «свободы от…» представляет собой особый род культурной энтропии, ибо культура, как и всякая система, существующая во внешней среде, не только воспроизводится через личность, но через нее же и самоуничтожается.
Другая сторона проблемы связана с пониманием того, где протекает социализация, т.е. с прохождением личности сквозь пространство современной культуры. Социализация, протекающая в виртуальном пространстве (а именно его следует признать если не доминирующим, то, по крайней мере, важнейшим и для первичной, и для вторичной социализации), задает свою структуру сознания, основанную на конструировании и производстве знаковой реальности, которую Ж. Бодрийяр характеризовал как «гиперреальность», т.е. производство знаков, не имеющих референта. Трактуемую таким образом реальность можно не только воспринимать и описывать, но также управлять ею, конструировать объекты, системы смыслов, задавать правила, коммуницировать – словом, в ограниченном пространстве можно помыслить себя не просто субъектом, но творцом культуры и приобрести соответствующие эмоциональноинтуитивные формы опыта. Эту способность современного сознания можно обозначить как «квазимагическое сознание», понимая под ним не реактуализацию архаических форм, а возникающее свойство современного сознания.
Эти объективные обстоятельства обусловили особый интерес к современным формам мифологического (или квазими-фологического) сознания. Мы обращаемся к мифу, поскольку внерациональная составляющая когнитивных процессов в современной культуре увеличивается. Мы использовали понятие «внерацио-нальное», поскольку, как нам видится, оно удачно вбирает в себя и «дорацио-нальное», и «сверхрациональное». В этой связи считаем полезным обратиться к рассмотрению мифа в качестве когнитивной схемы, которая моделирует процессы социализации, связанные с построением индивидуального мифа.
Мы хотим взглянуть на миф не как на архаическую форму или рационально сконструированное и нерационально воспринятое построение, а с точки зрения классической антропологии – как на фундаментальную и неизбывную данность культуры, трансформирующуюся с ходом культурного развития. Мы также хотели бы вспомнить феноменологическую традицию рассмотрения дорефлексивного познавательного акта как нерасчленен-ного на первичной ступени на субъект и объект, позволяющего схватывать и проживать реальности, как «подлинности», уникальное событие, эпистемологическое основание связи образа, идеи, вещи.
Мифомышление – это такая сфера, в которой, по мнению Я.Э. Голосовкера1, действует закон амбивалентности познавательного и творческого начал. Последнее особенно важно, поскольку тема преодоления противоречия знания и смысла стала одной из наиболее обсуждаемых в культурологических исследованиях. В целом ряде философских исследований мифа затрагивались проблемы экзистенциальных его характеристик, а также, что значимо для культурологического знания, формы синкрезиса знания и смысла в мифе2.
В современных исследованиях мифа важно и «демистификаторское» направление, связанное с анализом его как продукта массового и потребительского обще-ства3.
Мы понимаем под мифами базовые модели культуры (паттерны), принятые в качестве личностно-значимых образцов и целей деятельности. Они не подразумевают процесс верификации, но могут быть девальвированы, если в ходе приращения ценностно-смыслового опыта по какой-либо причине утрачивают свойство смысловой ориентировки. По своей структуре они синкретичны, глобально охватывают познавательную ситуацию и моделируют реальные практические ситуации. Мифы представляют для человека целостный образ действительности, в котором возможно самоопределение.
В этой перспективе миф выстраивается как текст, имеющий парадоксальную организацию.
Прежде всего, это целостная и завершенная форма и одновременно – незавершенная, поскольку открывает предельную полноту смысловой интерпретации. Мифологический формат целостности позволяет фрагментированной идентичности обрести столь необходимую целостность. Это аспект стоит особо отметить, поскольку здесь миф пересекается с проблемой идентичности, столь значимой с точки зрения социализации. Открытость и незавершенность оставляют возможность смыслового достраивания в направлении личностной идентичности.
Помимо целостности, миф предлагает также формат обжитого и предсказуемого пространства, в которое можно «вжиматься» в ситуации нестабильности и стресса. Наличие культурной мифомо-дели в известной степени компенсирует нехватку информации.
Миф безличен и вместе с тем он имплицитно носит субъектный характер, т.е. он выстраивается как коммуникативный акт Я и Другого, в котором действуют противоположные интенции: слиться с Другим и выделиться, выстроив свою собственную смысловую перспективу относительно Другого.
Миф имеет совершенно особую хро-нотопическую структуру, позволяющую производить смысловые совмещения цикличного и линейного времени («всегда», «вечно», «сейчас», «в эту минуту»), а также пространственные («там, в трансцендентном измерении» и «здесь, в этой конкретнопространственной точке»).
Рассмотрение мифа в качестве процесса связано со смысловой интерпретацией личностью заданной схемы. В этой части рассуждения мы опираемся на схему смыслового конструирования мира А. Шюца. Вхождение личности в пространство текста и освоение его в качестве личностного пространства реализуются на двух уровнях и в двух формах. Первый уровень и форма – это «переживание смысла, открытого заново, переоткрытие мира». Эта ситуация в полной мере реализуется в сценических воплощениях, ритуалах, церемониях, массовых действиях (парадах, зрелищах), играх. Экстатические переживания связаны с такого рода разотождествлением, которое приводит затем к закреплению опыта в качестве индивидуального, личностно-приобретенного. Второй уровень и вторая форма – это тождественный по смыслу и противоположный по форме ход: разотождествление с заданным Субъектом. Они позволяют осуществить рефлексивное конструирование смыслов в горизонте уже заданных форм.
Такой подход уже не позволяет нам уравнивать все тексты по горизонтали, как это принято в массовой культуре. Совершенно очевидно, что выделяется корпус текстов, имеющих «Голос», позволяющий осуществить рефлексивный процесс понимания и конструирование на этом основании ценностно-смысловой вертикали. Это религиозные, художественные, научные тексты, аккумулирующие родовой опыт хроники, воспоминания.
Особенность мифа, повторим, заключается в том, что он требует различных форм объективации. Такое «разыгрывание мифа» и реализуется в форме культурных сценариев. На первый взгляд соотнесение странное. Миф – это нечто потустороннее и даже трансцендентное, тогда как сценарий – это прописанная последовательность действий, которая предшествует развитию ситуации. Но, по нашим представлениям, в этом и заключается противоречивая логика социализации: присвоенные и освоенные в качестве индивидуальноличностного опыта мифомодели находят свое воплощение в качестве соответствующего культурного сценария.
Понятие культурного сценария используется в исследованиях, относящихся к стыковым областям культурологии, психологии, когнитологии, лингвистики. В этих отраслях знания данный термин подразумевает выявление некоего инварианта, моделирующего ситуацию в целом, однако оставляющего возможность вариативного протекания процесса. В языкознании этот термин использовался для описания устойчивых ментальных структур, моделирующих стереотипные ситуации. При этом многими исследователями подчеркивается различие понятий «когнитивный сценарий» и «культурный сценарий». Последний подразумевает ценностно-смысловые формы и предписания культуры, культурные правила, которые выражаются в формах речевого поведения1. В теоретической культурологии понятие культурного сценария связывается с воспроизводством человека в культуре, которое осуществляется на основании базовых жизненных программ, или матриц культуры.
В когнитологии понятие культурного сценария часто отожествляют с понятием фрейма, однако различие их видят в том, что у культурного сценария существует свой собственный хронотоп, и это обстоятельство, по нашему мнению, объединяет понятия мифа и культурного сценария. Сценарий интерпретируется как ментальная схема, типическая ситуация, в которой фрейм разворачивается как последовательность эпизодов. Это уровень вне-личностного, бессубъектного отношения в культуре, сухие внешние предписания, которые заданы социализационной матрицей. Но в культурно-рефлексивных практиках личности этот, так сказать, типовой сценарий разворачивается в смысловых вертикалях и целевых горизонталях и организует культурное пространство ее бытия. И.В. Шалина, обратившаяся к этой теме, использует понятие «жизненный сценарий». Последний «можно уподобить тому пути, который человек выстраивает в своем сознании в виде цепочки событий, событийных вех, соотнося настоящее реальное с ретроспекцией и одновременно планируя будущее. Жизненный сценарий интерпретируется как совокупная целостность событий, действий, а также чувств, возникающих под влиянием …событий. Жизненный сценарий закрепляется в сознании в виде идеальной ориентировочной модели, на которую человек опирается и которую пытается осуществить в реальности»2. Таким образом, пространство деятельности личности оказывается связным и выстроенным как в отношении конкретных форм деятельности, так и в отношении экзистенциальных ее перспектив – жизни, смерти, любви, творчества и т.д. Несмотря на то что эта структура и по своей природе носит мифологический характер, она является вполне реальным механизмом социализации личности. Превращение мифа в культурный сценарий – это важнейший механизм социали-зационного процесса, поскольку первый разыгрывается, а второй часто оказывается мифологичным.