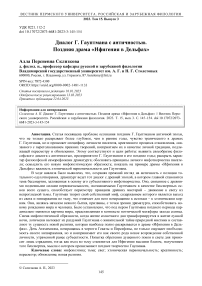Диалог Г. Гауптмана с античностью. Поздняя драма «Ифигения в Дельфах»
Автор: Склизкова А.П.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме осознания поздним Г. Гауптманом античной эпохи, что не только раскрывает более глубокое, чем в ранние годы, чувство трагического в драмах Г. Гауптмана, но и проясняет специфику личности писателя, креативного процесса становления, связанного с перетолкованием прежних творений, восприятием их в качестве личной традиции, подлежащей пересмотру и обновлению. Этому соответствуют и цели работы: выявить своеобразие философского диалога с античностью, предпринятого Г. Гауптманом в его поздние годы; раскрыть характер философской саморефлексии драматурга; обосновать принципы личного мифотворчества писателя; осмыслить его новую мифопоэтическую образность; показать на примере драмы «Ифигения в Дельфах» важность хтонической первоначальности для Гауптмана. В ходе анализа было выявлено, что, сохраняя прежний взгляд на античность с позиции тотального одухотворения, драматург ведет тот диалог с древней эпохой, в котором главной становится тема бессмертия, заложенная в основу его субъективного мифотворчества. Оно, связанное с древними подземными силами первоначальности, осознаваемыми Гауптманом в качестве бессмертных основ всего сущего, способствует пересмотру принципа древних мистерий - движение к свету из непроглядной тьмы. Гауптман творит свой собственный миф, содержанием которого является выход из света и низвержение во тьму, что означает для него возвращение к истокам - к хтоническим корням. Они, являясь началом всякого бытия, призваны, с точки зрения драматурга, способствовать новому рождению мира и человека. Было установлено, что под пером Гауптмана позднего периода кардинально меняется картина мира, представленная в контексте поэтической метафоры захода солнца. Смена мифопоэтической образности, когда житие солнечного дня трансформируется в житие лунной ночи, логически вытекает из раздумий Гауптмана о живительной тайне природной мистики и составляют ту сущность новой религии, которая наиболее полно раскрывается в драме «Ифигения в Дельфах». Дочь Агамемнона, возвращаясь в чертоги Гекаты и Персефоны, не только ощущает необходимость своего низвержения, но и воспринимает его как своего рода новое возрождение собственной личности, утраченной ранее субъектности. Попытка обретения душевного покоя в свете дня приносит лишь страдания, тогда как вход во тьму становится для Ифигении высшим благом, получением того бессмертия, мысли о котором пронизывают позднее творчество Гаупмана.
Мифопоэтика, тьма, свет, хтоническая первоначальность, креативность, пересмотр, обновление, новая религия
Короткий адрес: https://sciup.org/147241902
IDR: 147241902 | УДК: 8221.112-2 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-3-145-154
Текст научной статьи Диалог Г. Гауптмана с античностью. Поздняя драма «Ифигения в Дельфах»
Исследователи, обращающиеся к творчеству Г. Гауптмана, отмечают, что за ним закрепилось слово «непостижимый» (unergründlich) и «подобное определение осталось главенствующим спустя много лет после смерти писателя» [Machatzke 1989: 689]. Наиболее непостижимым оказывается позднее творчество Гауптмана. С самого начала возникло убеждение, что «Гауптман в зрелые годы находится в сильнейшей дистанции от театра» [Michaelis 1962: 13]. Роль драматурга в художественной жизни страны однозначно изменилась, у Гауптмана «нет никаких отзывов о литературе XX века, мало у него и личных заметок» [Behl 1949: 137]. Вероятно, такое отторжение от современной ему креативной среды отчасти объясняется тем, что Гауптман не врастает в новую эпоху и, соответственно, не хочет о ней писать. Доказательством является его наиболее известная и часто цитируемая фраза: «Моя эпоха началась с 1870 года и закончилась поджогом Рейхстага» (“Meine Epoche beginnt mit 1870 und endigt mit dem Reichstagsbrand”) [ibid.: 25]. Между тем жизнь художника слова в Германии 1930– 1940-х гг., как отмечает в своей книге И. Холма-горова, внешне вполне прилична и комфортна. Гауптман «в конце своего жизненного пути ничего не хотел менять в своей жизни <...>. Главное – не желал уезжать из страны <...> не считал нужным разбираться в политических распрях, тяготел к позиции “над схваткой”» [Холмагорова 2012: 112]. Подобная внутренняя установка на отторжение от окружающего зримого мира не могла дать материала для творчества, но Гауптман, не желая писать о действительности, казавшейся ему столь неприглядной, в то же время не может ничего не создавать. Однако некоторые современные немецкие исследователи приходят к выводу, что слава Гауптмана померкла, его поздние пьесы утратили актуальность [Gebhard 2010]. Писатель, который в свои ранние годы был возведен на литературный Парнас, в конце своего жизненного пути практически забыт. В то же время в современной германистике раздаются и другие голоса. Литературоведы подчеркивают иное, более глубокое, чем в ранние годы, чувство трагического в драмах Гауптмана. Это чувство в значительной степени объясняется решением драматурга остаться в гитлеровской Германии, что приводит его к особому душевному состоянию – внутренней эмиграции. Подобное намеренное абстрагирование от внешней ситуации не располагает Гауптмана к какому-либо комментарию и тем более ведению заметок и дневниковых записей [P. Sprengel 2009]. Далеко не случайно
Бернхард Темпел (Bernhard Tempel) говорит о необходимости «широко и полно раскрыть личность немецкого художника слова, в этом и состоит задача современного гауптмановедения» [B. Tempel 2010].
Взгляд на Гауптмана с точки зрения диалога современной ему культуры и древней античной эпохи поможет, вероятно, в некоторой степени прояснить специфику личности писателя, понять своеобразие его поздней драмы «Ифигения в Дельфах», являющейся первой частью тетралогии об Атридах.
Диалог с античностью как креативносубъективный процесс становления
Известно, что в диалог с античностью Гауптман вступает еще в ранние годы и ведет творческий разговор с ней на протяжении всей своей жизни. Однако характер этого разговора и, соответственно, этого диалога у Гауптмана до поездки в Грецию (весна 1909 г.) и после нее принципиально меняется. Вначале Гауптман приобретает знания о Древней Элладе на основании понятий о древности современного ему времени – рубежа XIX–XX столетия. Подход к античности по принципу всеобщего одушевления, свойственный эпохе, оказывается близок Гауптману, который верит в возрождение эллинского духа, в возможность его воскрешения. В ранних драмах отсутствует греческий сюжет, но доминирует глобальное греческое понимание, сложившееся у Гауптмана в результате мировоззренческого контакта с интеллектуальным богатством его времени. Интерес немецкого драматурга на рубеже веков сосредоточен на том, что составляло основу основ античной драмы: роковое предначертание («Возчик Геншель»), глубокое мисте-риальное содержание («Бедный Генрих»), всеобщая вовлеченность в единое одушевленное бытие («Роза Бернд»).
Однако личное, в высшей степени субъективное впечатление от Греции он получает только после поездки в эту страну. Именно в данный период, который Михаэлис (Michaelis) называет «второй дорогой» Гауптмана, поскольку «на классической земле проросло то, что разовьется в будущем» [Michaelis 1962: 19], в душе писателя-модерниста вершится креативно-субъективный процесс становления, который и определит его диалог с античностью в зрелые годы.
Стоит обратить пристальное внимание на специфику этого диалога. Он ведется на основе, во-первых, переосмысления мировоззренческих позиций современников, оказывавших на него влияние в ранние годы, во-вторых, переоценки собственной «греческой» концепции – той, кото- рая сложилась у него прежде. Как видно, в поздний период Гауптман перетолковывает свои прежние творения и воспринимает их как личную традицию, подлежащую пересмотру и необходимому обновлению. Такая философская са-морефлексия немецкого драматурга приводит к потребности «создать проект интерпретации самого себя, поскольку в ней <...> находит свое воплощение древнейшее стремление человека познать в мире смысл, найти в нем сферу осмысленной экзистенции» [Аствацатуров 2020: 16].
Прежний взгляд на античность с позиции тотального одухотворения, сопричастности всему, что существует, продолжает доминировать в сознании драматурга. Однако Гауптман, перечитывая, к примеру, Я. Бурхарта, обращает пристальное внимание на его размышления о «той» стороне, на мысли Бурхарта о «возникновении олимпийских богов из темных сил природы» [Burckhardt 1923: 38]. Сходным образом Гауптман, расширяя границы собственных прежних представлений, напряженно вчитывается в размышления Роде о душе [Rode 1907] и акцентирует для себя ее нетленность, изначально присущую, полагает драматург, греческому сознанию. Переоценивая свои положения в свете нового опыта, Гауптман воспринимает культ души, о котором пишет Роде, не как торжество жизни над смертью, о чем думалось ему ранее, а как некое особое состояние после завершения существования на земле. По-новому происходит и оценка основных положений Баховена. В поле зрения интересов немецкого драматурга остается столь значимая у Баховена тема жизни и смерти как результат вечного перехода одного в другое, как вечное становление всего сущего. Но в поздний период Гауптман фиксирует свое внимание именно на мысли Баховена о смерти, которая «является прологом к более высокому существованию» [Bachofen 1857: 9].
Как видно, Гауптман в поздние годы, перерабатывая собственные прежние положения, касающиеся Греции, вступает в тот диалог с античностью, в котором главной становится тема бессмертия. Именно данная тема глубоко волнует писателя, именно она ложится в основу его мифотворчества.
Особенности мифотворчества Гауптмана.
Понятие новой религии
Мифотворчество как культурно-творческий процесс, в ходе которого формируются мифологические представления о действительности, вершится в сознании Гауптмана во время поездки в Грецию и получает поэтическое воплощение в его произведении «Греческая весна» (“Griechi- scher Frühling”), композиционно организованном в виде дневника. Драматург, вступая на греческой земле во внутренний контакт с древним бытием, определяет миф как «богослужение в природе» [Hauptmann 1908: 44], «фантастическое природное выражение» [ibid.: 50]. Как видно, основой для процесса мифотворчества является созерцание одухотворенной природы, бессмертной и нетленной, вызывающей ощущение восторга от сопричастности всему, что существует.
Подобное действо Гауптман в разговоре с Белем, которого часто называют новым Эккерманом, определяет как «внутренний ландшафт» – окружающая природа оживает в душе и получает субъективное толкование [Behl 1949: 23]. Такая предрасположенность к мистическому переживанию (созданию внутреннего ландшафта, по Гауптману) позволяет не только вникнуть во внутренний смысл мифа, но и постичь его заново с точки зрения природной мистики, проникновения в ее таинства. В связи с этим в контексте данной проблематики можно вести речь о новой религии, которая бытует в сознании позднего Гауптмана. Драматург уверен, что «субъективное, мистическое восприятие внешнего мира – это и есть новая религия» [Hauptmann 1980: 241].
Необходимо подчеркнуть, что представления о новой религии возникли задолго до греческого путешествия, в период создания ранних драм. Гауптман, называя свою новую религию Homo religiosus, выделяя в ней две части: Wiederkunft (вечное возвращение) и Wiedergeburt (вечное рождение) [Hauptmann 1985], акцентировал особую экзистенциональную суть мира и человеческой личности. Литературоведы, которые обращаются к трактовке религиозных вопросов в творчестве Гауптмана, не без основания говорят о «причудливом сплаве античности и христианства» в его произведениях [Voigt 1938: 62].
С этим можно согласиться, если иметь в виду ранние драмы немецкого художника слова. Что же касается поздних текстов, то Гауптман, не боясь переоценки своих положений, заново осмысливает прежние религиозные представления с позиции нового, чувственного, субъективного опыта. Новая религия зрелого Гауптмана базируется на традиционной мифологической модели утраты – обретения. Но показательно, что Гауптман выбирает в качестве примера не образ Диониса – Загрея, растерзанного титанами, а затем вновь обретающего плоть и кровь, а образ Деметры, носящей имя Великой Матери Земли. Это очень важный момент, требующий тщательного комментирования. Для Гауптмана культ Диониса является кровавым, поскольку «именно благодаря ему и возник страшный мир трагедий с их нескончаемыми жертвоприношениями» [Hauptmann 1908: 88]. Однако дело не только в этом. Под пером немецкого драматурга происходит радикальная трансформация мифологического сюжета утраты – обретения. Для Гауптмана не могут быть значимы ни религиозные понятия о реинкарнации, доминирующие в орфических учениях и связывающиеся именно с воскрешением Диониса, ни концепция Ницше, касающаяся Аполлона и Диониса, поскольку в ней, с точки зрения Гауптмана, «есть нечто эксцентрическое» [Behl 1949: 245]. Позднему Гауптману, в сознании которого укореняется мысль о возможном бытии после расставания с видимым миром, важен образ Деметры, утратившей дочь Персе-фону, которая стала повелительницей подземного царства, и образ Гекаты – единственной, кто помогал Деметре в поисках и обретении Персефоны. В древнем мифе о смерти – возрождении акцентируется Гауптманом роль Гекаты как одна из ведущих. Геката, с точки зрения драматурга, является своего рода посредником, неким проводником, способным как разделять, так и соединять границы между миром верхним (Деметра) и миром нижним (Персефо-на). Поэтому древняя земная триада (Деметра – Персефона – Геката) рассматривается Гауптманом как та «первобытная сфера, тот хтониче-ский первоисточник, который знаменует вечную молодость, вечное духовное и душевное обновление» [Hauptmann 1908: 152], как тот апофеоз бессмертия, о котором непрестанно грезит драматург.
Подобный смысловой контекст закладывается и в размышления Гауптмана о лунной триаде (Артемида – Селена – Геката), осознание которой позволяет писателю-модернисту прийти к ясности и себя самого, и своего творчества. Основываясь на древнем сопоставлении хтониче-ской Гекаты с культом Артемиды и уподобление их богине Луны Селены, Гауптман создает радикально новую картину мира, явленную в контексте поэтической метафоры не восхода, как было в раннем творчестве, а, напротив, захода солнца. “Goldene Scheibe” как житие дня трансформируется в “Selenes Scheibe” как житие ночи, что свидетельствует о новых эстетических приоритетах драматурга. В ночи как в хтоническом первоначале заключаются для Гауптмана источники истинного бытия, той подлинной реальности, в которой для личности оказывается возможным новое рождение, осмысление и принятие индивидуальной экзистенции.
Мифопоэтическая интерпретация образов луны и заходящего солнца реализуется в поздних текстах Гауптмана «Солнце» (“Sonnen”) и «Тин- торетто» (“Tintoretto”). Лирический герой – старый писатель – «ожидает утра в солнечной темноте» [Hauptmann 1942: 16], в душе его звучит «музыка заката солнца» [ibid.: 24], того заката, багрянец которого, считает Гауптман, пламенеет на полотнах Тинторетто. Он, утверждает драматург, на своих полотнах всегда «создает ландшафт Аида» [Hauptmann. Tintoretto 1942: 17], «испытывает доверие к ночи, к темноте» [ibid.: 24], понимая, что «сила подземного Зевса намного превосходит силу Зевса олимпийского» [ibid.]. Интерпретируя картины великого венецианца в контексте своих представлений о возможном бессмертии, Гауптман позднего периода меняет свои воззрения о специфике мистериального пути, поэтически репрезентированного им в ранний период, – не движение вверх, к свету солнца делает человека значимым субъектом, а, напротив, внутреннее побуждение к слиянию с хтониче-ским первоначалом.
В связи с этим трудно согласиться с мнением, бытующим в литературоведении, о темном принципе Гекаты, о жутком триумфе подземного мира в поздних творениях Гауптмана. Подобная точка зрения была высказана в 1962 г. Михаэлисом и по сути дела не менялась в дальнейшем. В русском литературоведении подобную концепцию разделяет, к примеру, Т. Нипа, считая, что у Гауптмана все объясняется властью темных, хтонических сил [Нипа 2001]. Сходным образом Т. Шарыпина, определяя Артемиду как ипостась ночной Гекаты, подчеркивает ее разрушительную мощь [Шарыпина 2010]. Напротив, в творчестве Гауптмана позднего периода происходит основополагающая ревизия понятий, касающихся хтонических сил, традиционного представления о них как о пугающем, страшном, темном начале. Эти силы, поэтически воплощаясь под пером Гауптмана в образах Артемиды, Персефоны и Гекаты, являются для драматурга тем благим первоначалом, возвращение к которому приводит индивида к новому бытию, обретению своего индивидуального «Я». Ярким примером служит драма «Ифигения в Дельфах».
Драма Гауптмана «Ифигения в Дельфах».
Обновление мира и возрождение человека
Известно, что она написана под впечатлением одного фрагмента Гете из «Итальянского путешествия». Этот фрагмент расширяется Гауптманом, он воссоздает тот дельфийский эпизод из истории Атридов, к которому до него никто не обращался: Орест привозит сестру Ифигению в Дельфы, где он получает окончательное прощение за убийство матери, его вторая сестра Элек- тра выходит замуж за Пилата, а Ифигения, понимая, что успокоения ей не приобрести, покидает этот мир.
Ф. Фойгт еще в 1965 г. связывал замысел Гауптмана с войной, с «ужасом мировой истории, которая облекается в форму древнего мифа» [Voigt 1965: 144]. В последующих трактовках широко и полно представлены мифологические рецепции Гауптмана, подробно говорится о точках соприкосновения и отталкивания от предшественников (Еврипида, Расина, Гете, Гофмансталя), но доминирует прежнее убеждение, касающееся стремления драматурга посредством мифа об Атридах поэтически реконструировать страшную действительность фашистского режима [Schrengel 1984; Leppmann 1996; Aretz 1999; Petrovic 2009; Нипа 2001; Шарыпина 2010]. Думается, что прав Б. Темпел, который предлагает рассматривать позднее творчество Гауптмана, трагедию «Ифигению в Дельфах» в частности, с точки зрения процесса самопонимания [B. Tempel 2010]. Попытка осмысления подобного процесса приводит не только к более глубокому восприятию замысла драматурга в отношении трагедии «Ифигения в Дельфах», но и позволяет увидеть в Гауптмане писателя-модерниста, который, ориентируясь «на историю культуры, создает собственные варианты эстетической реальности в своих художественных творениях» [Аст-вацатуров 2020: 17].
Важно обратить внимание на место, где происходит действие. Это Дельфы, к которым у Гауптмана особое отношение. Именно в Дельфах он ощущает действие древних бытийных сил, которые, будучи высшей религией природы, непрестанно творят ее великую мистерию [Hauptmann 1908: 148]. В душе Парнаса раскрываются для Гауптмана «неисчерпаемые, хтониче-ские источники, питающие человеческие души» [ibid.: 170]. Как видно, в Дельфах, воспринимаемых драматургом в качестве концентрации всех хтонических, первобытных сил, миф, бытующий в самой природе, последовательно вовлекающийся в ее беспрерывный процесс становления, воочию познается и творится заново. Гауптман, выбирая Дельфы местом для развития драматических событий в первой части своей тетралогии, творчески вершит и подобное познание, и подобное творение.
В рамках статьи представляется целесообразным обратиться к диалогу двух сестер – Ифигении и Электры, тому диалогу, который, к примеру, Ф. Фойгт называет «великолепной драматической сценой, построенной в совершенстве» [Voigt 1938: 168]. До беседы с Электрой Ифигения, считая окружающий мир страшным и ужас- ным (“fürchterlich verderbte Menschenwelt”) [Hauptmann 1962: 500], находясь в очень тяжелом эмоциональном состоянии, была уверена в том, что ее никто не помнит, и она сама не желает удерживать в памяти никого из прежде знакомых людей. Напротив, она намеренно от них отрекается, никого не хочет вспоминать, хотя богиня и не затуманила ее разум (“ <...> will mich keiner sonst erinnern, obwohl du mein Gedächtnis nicht getrübt”) [ibid.]. Желание Ифигении отторгнуться от всех живых существ, населяющих этот видимый мир, поэтически выражается особым жестом – она все время прикрывает глаза рукой, заслоняясь и от людей, и от того растущего света Аполлона, который причиняет душевную боль старшей дочери Клитемнестры. Ифигении, подчеркивает Гауптман, ближе темнота ночи Гекаты с пылающими факелами (“<...> Apoll, wenn mich dein wachsend Licht nur schmerzt. Licht löscht das Licht. Mich aber nähren allein der Hekate glückseli-ge Fackeln”) [Hauptmann 1962: 503], считает, что Геката более ясно видит, чем Аполлон (“Hellsich-tiger als Apoll weitaus ist Hekata”) [ibid.: 500]. Жрецу Алокосу кажется, что весь облик жрицы Артемиды сопоставим с картиной ночи с ее отчеканенным смехом, который кажется неподвижным, всезнающим и похожим на миндаль (“Dieses Bild der Nacht. Ein Lächeln ist um ihren Mund geprägt, ein regunsloss, das allwissennd scheint, wie Mandeln”) [ibid.: 498], Электра называет сестру болью, которая шагает по миру (“Du scheinst mir, wie ein Schmerz, der wandelt. Nein, mehr: als wie der Schmerz der ganzen Welt”) [ibid.: 505], а сама Ифигения именует себя «смерть, которая ходит» (“einen Tod, der wan-delt”) [ibid.: 506].
Гауптман не случайно вводит в речи двух сестер один глагол “wandeln” – его значение не исчерпывается переводом посредством синонимичных пар «ходить, бродить, шагать», хотя в данном случае именно они позволяют почувствовать весь образ и облик Ифигении – смерть, которая ходит, боль, которая шагает по миру. Однако у глагола “wandeln” есть и другие значения – преобразовывать, превращать, что в полной мере согласуется с существительным “Wan-del” – перемена, изменение. Подобные перемены настигают сестер: они, столь долго пребывавшие в разлуке, соединяются вновь, начинают чувствовать страдания друг друга, понимать их глубинный смысл.
Такой процесс взаимопонимания Гауптман рисует посредством одинаковых воспоминаний сестер. Сначала Электра рассказывает свой сон – она, совсем еще ребенок, играла с Ифигенией, расцветшей молодой девушкой, на зеленом лугу среди фиалок и нарциссов (“...als hätte ich unter Veilchen und Narzissen auf grünem Rasengrund mit dir gespielt. Ich ganz noch Kind und du die holdeste der kaum erblühten Jungfraun in Mykene”) [Hauptmann 1962: 506]. Электра, как бы намеренно пробуждая воспоминания сестры, рисует перед ней дивную картину – золотые волосы Ифигении развевались, смех звенел и звучал в саду (“dein goldfalb Haar wie eine Lohe dir Haupt und Schul-tern ˂...> und wie dein Lachen perlte durch den Duft der Gärten”) [ibid.: 507]. Сходный сон видит и старшая дочь Агамемнона – она помнит, как резвилась с Электрой в этом саду, прыгала вокруг нее, догоняла (“Ein halbe Kind, mit du spieltest, gleich will ein bunter Falter mit dem andern, es schüttelte die Locken, sprang umher, fing und um-fing dich, küßte ˂...> heftig dich”) [Hauptmann 1962: 507]. Ифигения не может оттолкнуть от себя Электру, прежний путь отторжения от людей оказывается бессмысленным в ситуации диалога с сестрой. Суровая жрица становится нежной сестрой, плачет, обнимает Электру.
В то же время чем больше сближаются сестры, тем сильнее обнажаются мировоззренческие противоречия между ними. Ясная установка Электры, касающаяся начала новой жизни, каждый час которой полон любви и всеобщего примирения (“die allversohnend – liebevolle Stunde”) [ibid.: 512], совершенно неприемлема для Ифигении. Нетрудно увидеть, что глобальная идея всеобщего согласия, необходимого сглаживания противоречий, столь отчетливо сформулированная Гауптманом в ранней драме «Праздник примирения» (“Friedensfest”, 1890), не кажется драматургу убедительной в его зрелые годы. Правда, Гауптман, переосмысливая свои прежние воззрения, сохраняет доверие к “Gemüt”, представленном в качестве метафоры благоденствия, согласия и высшего блага как для мира в целом, так и для индивида в частности. Однако меняется его смысловая наполненность. Электра говорит о “Gemüt” так, как оно понималось Идой – героиней «Праздника примирения»: движение души к свету общего согласия, упразднения всех конфликтов, урегулирования всех противоречий. Воцарение подобного блаженного состояния, как она полагает, вполне возможно, поскольку брат Орест прощен, сестра Ифигения нашлась, вернулась домой для новой жизни (“...du kehrtest heim, um neu”) [ibid.], воскрешение произойдет, поскольку все искупили свою вину (“...wie wir, das Leben zu beginnen in dem entsühnten Argos unsrer Väter”) [ibid.: 512], род Атридов обновится (“so wiederum erneurnd Atreus‘Stamm”) [ibid.], то, что было разрушено, вновь построится (“hilfreich zu sein in Aufbau des zerstörten”) [ibid.].
Между тем темная жрица Артемиды думает иначе, ее видение окружающего бытия в корне противоположно тому, о чем с таким пылом поведала ей сестра. Ифигения не верит в благие изменения в том мире, который однажды принес ее в жертву. Не случайно она просит богиню забрать ее назад, куда ей угодно, лишь бы прочь от людей, ей не хочется никого видеть, она жаждет побыть в одиночестве (“Göttin, Mutter, führe mich zurück <...> kann es nicht sein, sonst, wohin du willst, nur fort von Menschen <...>, nur fort <...> und unauffindbar tiefe Einsamkeit”) [ibid.: 500].
Между тем именно с образом Ифигении связана идея обновления, блаженного становления, воцарения “Gemüt”, что в устах Электры знаменует движение к свету, а согласно душевным порывам Ифигении ведет в спасительную тьму. Немецкого драматурга интересовал «человек, который пережил смерть и погрузился в глубокую глубину (untere Tiefe) собственной жизни, познав и ощутив тем самым мир за пределами разума» [Behl 1949: 263].
О таком мире повествует Ифигения. Следует иметь в виду, что Гауптман, перечитывая Бахо-вена, обращает пристальное внимание на его размышления о сакральном значении числа три. Баховен называет это число «знаком инициации, переходом индивида на более высокую ступень развития» [Bachofen 1857: 252], связывает такое развитие со смертью. Гауптман, модернизируя мысли Баховена, предлагает в своей драме иную трактовку числа три. Она касается трансформации принципа Гекаты, основополагающей ревизии главной триады, которой, согласно древним воззрениям, правила богиня: жизнь – рождение – смерть. Под пером Гауптмана обретает силу реальности принципиально иная триада: рождение – смерть – рождение, истолкование которой позволяет говорить о трехступенчатом процессе самопонимания, что и показывает драматург на примере Ифигении.
Она подробно рассказывает Электре о том, что умерла три раза („Ich starb drei Tode“) [Hauptmann 1962: 512]. Первая смерть ее настигла от руки отца Агамемнона. Он, руководствуясь божественной волей, решился на это ради будущего процветания Эллады, а мать Клитемнестра была вынуждена смириться с таким приговором. Гауптман показывает темную сторону мира олимпийцев, религия которых основана на смирении. Люди вынуждены безоговорочно принимать божественный вердикт, исполнять преступные приказы, непрекословно подчиняться божественному авторитету. В душе Ифигении постепенно формируется отвращение к верхней сфере – бытию олимпийцев, в котором она столь недолго пребывала, возникает ощущение неизбежного конфликта. Недаром она говорит Электре, что потеряна для «их мира» – области так называемого света („Ich für ihre Welt verloren bin“) [Hauptmann 1962: 512].
Другой мир обретает силу реальности в драме Гауптмана. Это мир Гекаты, которая непостижима и имеет много лиц (“das du vielgestaltig bist”) [ibid.: 500], и является той, кто приняла в свои чертоги Ифигению, возродила ее к жизни через смерть („Du, die gleichsam mich getötet und auf neue gebar“) [ibid.: 499]. Геката стала матерью для Ифигении, недаром она так ее и называет, подчеркивая, что другую мать по крови (Клитемнестру) не хочет вспоминать, поскольку она отреклась от нее („Mutter, ich hatte keine andere je als dich und will mich keiner sonst erinnern“) [Hauptmann 1962: 500]. Гауптман подробно описывает процесс преображения героини, которая вторично приняла смерть в чертогах Гекаты.
Ифигению положили в гроб, она отреклась от мира через клятву (“...in einer Sarge gelegt, wo ich der Welt durch einen Schwur entsagen”) [ibid.: 513]. Геката предстала перед ней во всем своем величии (“Die Göttin Hekate, die damals mir in ihrer ganzen Majestät erschien”) [ibid.], каждая часть существа дочери Клитемнестры подвергалась болезненному преобразованию (“ein jedes Teil-chen meines Seins an Haupt und Gliedern, schmerz-haft umgebildet”) [ibid.], Ифигении казалось, что она в Гадесе, в самом центре страны мертвых, принята в круг Персефоны (“…träumte mir, ich sei in Hades, werde aufgenommen in Kreis Perse-phoneiens und im Land der Totet”) [ibid.], С этого момента сестра Электры понимает, что она жива, но ее жилище отныне там, где властвует Персе-фона (“…die ich noch bin... Aber meine Wohnung im Totenreich Persephoneiens ist”) [ibid.]. Эта вторая смерть Ифигении одновременно означает возрождение в новой сфере и в новой форме („Ich wurde neugeboren“) [ibid.: 500]. Отныне сознание героини открыто для бесконечности, ее вынужденный путь назад (в Гадес) есть одновременно и путь вперед – к будущей жизни в качестве жрицы Гекаты. Ифигения, будучи отчужденной от социума, постигает теперь другую религию – религию Гекаты, дарующей жизнь тому, кто прошел через смерть. Сестра Электры избавляется от ортодоксальной религии олимпийцев, которая отныне осознается ею в качестве мертвых, застывших догматов в противовес жизнеутверждающему вероисповеданию Гекаты.
Но Ифигения рассказывает сестре и о своей третьей смерти – смерти в поношении („ein Tod der Schmach“) [ibid.: 514]. Необходимо обратить внимание на то, что дочь Агамемнона, говоря о своем возможном появлении в светлом дне Аполлона, ведет речь от третьего лица („wenn Iphigenia am hellen Tag Apollons wiederum er-scheint“) [ibid.]. Это не случайно, поскольку интенция драматурга направлена на выявление причин полного духовного отторжения Ифигении от враждебного социума. Не менее важным является и то, что в тексте употребляется конъюнктивная форма как сослагательное наклонение в значении нереальности. Жрица Гекаты хорошо знает мыслительную логику коллективного «Я», того, за которым навсегда исчезло «Я» индивидуальное. Поэтому она может четко и ясно предвидеть реакцию «светлого дня Аполлона» на свое внезапное возникновение. Ифигения, предугадывая «голос народа» („die Stimme der Volkes“), выявляет их предвзятость, очевидную неправоту, всегдашнее желание судить и осуждать. Они признали бы Агамемнона обманщиком („Er war also ein Betrüger“), обвинили бы его в том, что он не приносил в жертву свою дочь, обманывал народ Греции („er hat die Tochter nie geopfert und das Volk der Griechen hinter Licht geführt“) [ibid.]. Что же касается Ифигении, то она была бы названа убийцей многих греческих сыновей и подвергнута суду („Iphigenien, die Mörderin so vieler Griechensöhne, vor Gericht“) [ibid.], который приговорил бы ее, Ифигения не сомневается в этом, к еще одной смерти. Подобный вердикт оказался бы самым ужасным для Ифигении. Она, пережившая столько смертей, вынуждена была бы подвергнуться душевным мукам из-за массовых поношений („ Und nun be-ganne das Entsetzliche die so viel Tode litt, ihr blüh-te dann der gräßlichste zuletzt ein Tod der Schmach“) [ibid.].
Именно такое глубокое проникновение в бездны массового сознания, уверенность в своей неминуемой смерти в верхнем мире, от которой ее уже никто не спасет, и приводит Ифигению к сознательному выбору – возвращению во владения Гекаты, которые ей представляются спасительным оазисом, освобождением от чувства бессмысленного существования в мире так называемых светлых олимпийцев. Верхнее бытие предстает под пером Гауптмана как сфера смерти, нижнее царство рисуется как обетованное лоно вечного становления, духовного и душевного возрождения.
Заключение
Итак, немецкий драматург, ведя диалог с античностью, пересматривает и ведущий принцип древних мистерий, и свое раннее творчество. Путь к сияющему свету из непроглядной тьмы, который проходили мисты и по которому следо- вали герои прежних драм Гауптмана, не кажется ему теперь единственно верным. Свет, с его точки зрения, очернен, а тьма высветлена. Прежние мифы о хтонической первоначальности как царстве ужаса и смерти перетолковываются драматургом и осознаются им в качестве источника вечной молодости, вечного становления. Он творит свой собственный миф о возвращении к истокам – к ночи Нюкте, в которой господствует Геката, и выдвигает концепцию иного мистери-ального пути – не солнечное восхождение, а лунатическое низвержение. Такой путь позволяет индивиду обрести свое утраченное «Я» и, благодаря трехступенчатому процессу самопонимания, осознанно вступить на ту дорогу, которая приведет его к новому истинному бытию и позволит ощутить себя значимым субъектом. Его героиня Ифигения покидает мир олимпийцев с его ортодоксальной религией, массовым сознанием, пренебрежением к потребностям и желаниям личности. Другой мир, который приобретает Ифигения, мир хтонической Гекаты, предстает под пером Гауптмана в качестве той новой эстетической реальности, в которой индивид ощущает духовное и душевное обновление.
В поздний период Гауптман утверждает вход во тьму в качестве высшего блага, нового “Gemüt”, обретения того личного бессмертия, мысли о котором теперь доминируют в его творчестве. Смена мифопоэтической образности, явленной посредством репрезентации захода, а не восхода солнца, организует поздние тексты немецкого художника слова. Однако этот заход является одновременно тем восходом, тем расцветом, краски которого пламенеют в его творениях так же ярко, как и на полотнах столь почитаемого Гауптманом венецианца Тинторетто, и предстает мощным доказательством немеркнущей славы великого драматурга.
Список литературы Диалог Г. Гауптмана с античностью. Поздняя драма «Ифигения в Дельфах»
- Аствацатуров А. Г. Герменевтическая прелюдия // Человек эпохи модерна: герменевтика субъекта в немецкоязычной культуре XVIII-XX веков. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2020. C.14-36.
- Нипа Т. С. Античный цикл драм Герхарта Гауптмана: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: МПГУ, 2001. 16 с.
- Шарыпина Т. А. Драматургия позднего Г. Гауптмана и новый взгляд на немецкую литературу XX века // Новые российские гуманитарные исследования. 2010. № 5. URL: http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/articles-germaniya/shary-pina-dramaturgiya-pozdnego-gauptmana.htm (дата обращения: 20.11.2021).
- Холмагорова И. Г. Гауптман. Драма заката. М.: ГИТИС, 2012. 224 с.
- Aretz S. Der Opferung der Iphigenia in Aulis. URL: https://www.perlego.com/book/725482/die-opferung-der-iphigenia-in-aulis-pdf (дата обращения: 11.12. 2022).
- Bachofen J. Versuch über die Gräbersymbolik der Alten. Basel: Bahnmaier, 1857. 426 s.
- Behl C. F. W. Wege zu G. Hauptmann Coslar -zwiesprache mit G. Hauptmann. München. 1949. 427 s.
- Burckhardt J. Griechische Kulturgeschichte. Berlin - Stutgart: Verlag von W. Spemann, 1923. 520 s.
- Gebrard A. G. Hauptmann. Sein Ruhm ver-blassst. Marburg: Tectum Verlag. 2010. 95 s.
- Hauptmann G. Abenteuer meiner Jugend. Berlin und Weimer: Fischer Verlag, 1980. 901 s.
- Hauptmann G. Griechische Frühling. Berlin: Fischer. 1908. 226 s.
- Hauptmann G. Sonnen. Meditationen. Berlin: Fischer. 1942. 28 s.
- Hauptmann G. Tagebuch 1892 - 1894. Frankfurt am Main: Propyläen, 1985. 282 s.
- Hauptmann G. Tintoretto. Das Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Berlin: Fischer. 1942. B. 12. S. 3-27.
- Hauptmann G. Iphigenie in Delphi. Ausgewälte Werke in acht Bänden. Berlin: Aufbau-Verlag. 1962. B. IV. S. 453-619.
- Leppmann W. G. Hauptmann. Leben, Werk und Zeit. Bern: Scherz Verlag. 1996. 415 s.
- Machatzke M. Geistige Welt um 1900. G. Hauptmann. Tagebücher 1897 bis 1905. Anmerkungen des Herausgebers. Frankfurt am Main: Propyläen. 1989. S. 687-733.
- Michaelis R. Der schwarze Zeus & G. H. zweiter Weg. Berlin: Arcon Zerlag. 1962. 480 s.
- Petrovic A. Zwischen Tradition und Zeitbezug. G. Hauptman Atriden Tetralogie. URL: https://www. grin.com/document/149110 (дата обращения: 11.11.2011).
- Rode E. Psyche. Seelenkult. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1907. 454 s.
- Sprengel P. Die Wirklichkeit der Mythen. Untersuchungen zum Werk G. Hauptmann. Berlin: S. Steineke. 1984. 230 s.
- Sprengel P. Der Dichter stand auf hoher Küste. G. Hauptmann in Dritten Reich. Berlin: Propyläen. 2009. 400 s.
- Tempel В. Ein Versuch über G. Hauptmann künstlerisches selbstverstöndnis URL: https://doc-player.org/110918307-Bernhard-tempel-alkohol-und-eugenik-ein-versuch-ueber-gerhart-hauptmanns-kuenstlerisches-selbstverstaendnis.html (дата обращения: 12.12.2022).
- Voigt F. G. Hauptmann und Shakespeare. Ein Beitrag zur Geschichte des Fortlebens Schakespear's in Deutschland. Breslau: S. Steineke 1938. 152 s.
- Voigt F. Hauptmann und die Antike. Berlin: E. Schmidt. 1965. 291 s.