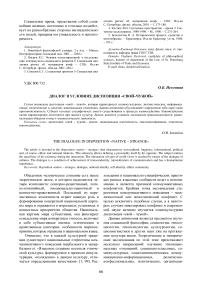Диалог в условиях диспозиции "свой-чужой"
Автор: Истомина Ольга Борисовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена диспозиции «свой - чужой», которая характеризует социокультурные, лингвистические, информационные, политические и, конечно, национальные отношения. Данная антиномия обусловливает определение себя через свою противоположность. Субъект осознает специфичность своего существования в процессе взаимодействия. Взаимодействие типов мировоззрения достигается при диалоге культур. Диалог является условием достижения трансцендентности, рационализации общения и имеет гуманистическую значимость.
Диспозиция "свой - чужой", диалог, национальная идентичность, самоидентификация, этническое взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/148179680
IDR: 148179680
Текст научной статьи Диалог в условиях диспозиции "свой-чужой"
Обыденное человеческое сознание есть некое теоретическое целое, в котором выделяются четыре компонента: сенсорно-рецептивный, логико-понятийный, эмоционально-оценочный и ценностно-нравственный. Последний из перечисленных компонентов играет важную роль в формировании конкретной национальной картины мира и отражается в моральных установках и ценностных приоритетах общества. Национальная картина мира субъективна, она фиксирует осмысление мира конкретным этносом, включает в себя субъективные оценки, эстетические и нравственные категории, особенности мировосприятия, которые отражены в национальном языке.
Очевидно, что в каждой культурной традиции существуют национальные стереотипы коммуникативного поведения (вербального и невербального). «Языковое сознание носителя этнической культуры, формируемое в процессе инкультурации, «вхождения» в данную культуру, отличается определенными качествами» [1; 99]. Рас- хождения в национально-специфических практиках разных языковых сообществ ведет к непониманию и является причиной коммуникативных конфликтов. Крайняя точка несовпадения стереотипов коммуникативного поведения – межличностный или межэтнический конфликт. С целью исключить подобные случаи, а в некоторых случаях нивелировать конфликт в современной науке активно изучается социокультурная диспозиция «свой – чужой».
Данная антиномия является предметом изучения социальной философии, социологии, этносоциологии, этнопсихологии, культурологии, социолингвистики и других наук уже на протяжении полутора веков. Теоретические и эмпирические исследования по этой теме представляют несколько направлений: изучение этнонацио-нальных отношений, социально-классовых, социокультурных, социолингвистических, коммуникационно-информационных, религиозноконфессиональных, политических, организаци- онно-институциональных и др. отношений.
Диспозиция «свой – чужой» в перечисленных отношениях обусловливает функционирование различных социальных процессов. Например, в этнонациональных отношениях антиномия способна выявить этнонациональную солидарность или отчуждение, в социокультурных отношениях – интеграцию или дезинтеграцию, инкультурацию или ассимиляцию, в религиозноконфессиональных – веротерпимость, толерантность или религиозную неприязнь, в социолингвистических отношениях – к примеру, билингвизм или монолингвизм как следствие ассимиляции и т.д.
Концепция классовой диспозиции представлена в методологии К. Маркса в виде анализа классового характера отчуждения человека от человека: «В некоторых отношениях человек напоминает товар, так как он родится без зеркала в руках и не фихтеанским философом: «Я есмь Я», то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь относясь к человеку Павлу, как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе, как к человеку» [9; 62].
Понятие «зеркало» как социальный феномен рассматривается в теории Ч. Кули, в которой утверждается, что социальное «Я» индивида, т.е. его самость, способно формироваться и самоидентифицироваться только благодаря отражению в «другом». Поэтому социальную самость Ч. Кули называет отраженной, или зеркальной (looking – glass – self). «В нас рождает гордость или стыд не просто наше механическое отражение, а приписываемое кому-то мнение, воображаемое воздействие этого отражения на другое сознание» [7;136].
В процессе повседневного взаимодействия соприкасаются не только люди, но и их сознание, жизненный опыт, их представления, т.е. разные социальные реальности. У каждого человека своя реальность, следовательно, социокультурный мир состоит из множества социальных реальностей. По терминологии Дж. Мида, в обществе индивид взаимодействует с разными «обобщенными другими», которые выступают в качестве инструмента идентификации индивида с группой. Роль «другого», по мнению Мида, является основополагающей в процессе формирования социального «Я», а также в поведении индивида. «Обобщенный другой» стал образным выражением совокупности обезличенных аксиологических установок, ценностей общества.
Согласно феноменологической теории повседневная жизнь индивида обусловлена ориентациями на «другого», что в некоторой степени соотносится с концепцией «социального дейст- вия» М. Вебера. Социальным может называться такое «действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действиями других людей и ориентируется на другого» [3; 603]. Феноменологическое объяснение взаимопонимания А. Шюца гласит, что «переживание и сознание Другого не есть мое переживание и сознание. Но мое переживание и сознание есть реакция на переживание и сознание «другого». Интенциональным предметом моих собственных переживаний является воспринятое через систему знаков и в знаковой системе переживание «другого» [3; 865]. Установка Я по отношению к чужой деятельности, по мнению А. Шюца, определяется как установка на «чужого».
Вслед за А. Шюцем анализ социокультурной диспозиции «свой – чужой» продолжили П. Бергер и Т. Лукман. Основу данной теории составляет утверждение, что общество двойственно. Общество представляется как объективная реальность, не зависящая от нашей воли, и одновременно это «жизненный мир», смысловая система, конструируемая людьми, т.е. субъективная реальность. Люди способны приписать значение предметам или явлениям в процессе взаимодействия. «Мы не только живем в одном и том же мире, мы участвуем в бытии друг друга» [2; 212]. «Наиболее важно восприятие других людей в ситуации лицом-к-лицу, которая представляет собой прототип социального взаимодействия. Формирование в сознании обобщенного Другого – решающий фактор социализации. Она включает интернализацию общества как такового, а значит, и устанавливаемой объективной реальности, и в то же время она включает субъективное установление целостной идентичности» [2; 207]. Взаимодействие людей определяет непрерывную идентификацию, в результате которой «реальность социально конструируется» [8; 30].
Дифференциация «свой – чужой» в большинстве случаев выступает в роли оппозиции: свое – чужое, естественное – неестественное. «Свое» – это близкое и понятное, «чужое» – неизвестное, потенциально опасное. «Свое» – это мир «я» субъекта сознания, а «чужое» – мир «других». «Два принципиально различных, но соотнесенных между собой ценностных центра знает жизнь: себя и другого, и вокруг этих центров распределяются и размещаются все конкретные моменты бытия» [12; 66]. Антиномия данных понятий нашла выражение и в их аксиологическом наследии. Это первичные бинарные коды мышления, коммуникации, взаимодействия, ускоряющие процессы ориентации и адаптации в обществе. На основе взаимоограничения «Я» и «не-Я» происходит взаимоопределение, следую- щее в результате столкновения противоположных понятий; определение себя через «другое», через свою противоположность.
В результате взаимодействия с «другой» культурой у реципиента формируется к ней свое отношение, оно детерминируется национальноспецифическими различиями. Специфические характеристики национальных культур вслед за И.Ю. Марковиной [11] можно обозначить термином «лакуна». Лакуны, главным образом, формируют представления об инокультурной среде и служат своеобразным сигналом «другой» культуры. Дифференциация «свой – чужой» – «это маркирование себя самобытными формами своей культуры, что является основанием для самоидентификации общества» [4; 12].
Стартовая точка человеческого познания – осознание себя частью, отдельной от всего остального мира, идентифицикация своего «я» через дистанцирование. Человек совершенно осознанно начинает изучать мир с себя, мир для него заключается в познающем субъекте. «Другой» – это то зеркало, в которое я смотрю, чтобы увидеть свое отражение. Моя деятельность всегда направлена на «другого»… Я живу и действую среди «других» [4; 8]. Субъект осознает специфичность своего существования в ходе взаимодействия.
У каждого индивида существует несколько форм идентичности, например, социальноклассовая, профессиональная, возрастная, половая, конфессиональная, этническая и др. Этническая идентичность очень важна для самоидентификации индивида, т.к. является фактором формирования и одновременно следствием осознания особенностей, лакун национальной картины мира. Проникнуть в инокультурную картину мира возможно, только овладев знаниями о национально-специфических прототипах, которые в функциональной совокупности являются воплощением модели мира в сознании нации.
Потребность в этнической идентичности, как и потребности в благополучии, безопасности, относится к базисным, жизнеутверждающим. По определению Г.У. Солдатовой, идентификация по этносу имеет три составляющие: потребность в этнической принадлежности, потребность в позитивной этнической идентичности и, наконец, потребность в этнической безопасности [10; 153]. Потребность в идентичности стоит за стремлением индивида обрести социальный статус. Э. Фромм определял это желание как психологический механизм «бегства от свободы» [13]. Названные компоненты данного механизма генерируют следующие мотивы соответственно: а) аффилиативные (мотивы привязанности); б) статусные (мотивы самоуважения и достоинства); в)
архетипические (мотивы безопасности).
Таким образом, формирование этнокультурной идентичности связано со способностью ориентироваться в достаточно широком культурном контексте, оно связано с созданием стереотипов, концептов, моделей вербального и невербального общения. Этнический характер рассматривается на уровне черт личности, то есть интроеци-рованных в личность ценностей, что есть результат длительного процесса взаимодействия особенностей генотипа с культурой и взаимного их приспособления.
Этничность как коммуникативный ресурс не всегда задействована в процессе социального взаимодействия, она является одним из ресурсов адаптации, одной из возможностей в коммуникативном арсенале индивида, позволяющей выстроить его поведение в соответствии с требованиями социальной среды. Этничность может как способствовать социальной компетенции индивида, так и ограничивать ее.
Национальная идентичность – это совокупность примордиальных факторов: исторических, ареально-хронологических, территориальных, языковых, этнических, политических, а также любых проявлений социального бытия человека. А выражает себя национальная идентичность через речевые практики. Родной язык органично соединяет в себе ориентированность на прошлое народа, историю его культуры, а также способствует осознанию соотнесенности отдельного индивида с формой национально-языкового единства – этносом. Этничность выступает своего рода ресурсом, который постоянно поддерживается наррациями – мифами о героическом прошлом некоего социума, о его культурноисторической уникальности и предопределенности особой исторической миссии. Этнические символы и мифы – это те формы, которые каждое поколение застает уже готовыми и которые направляют его интерпретирующую и творческую активность. Становясь частью этнической идентичности, архетипы, этнические ценности и символы, в том числе сознание языкового единства, обретают реальную мобилизующую силу.
Конструирование индивидуального Я и формирование его самосознания базируются на са-моориентации, то есть на осознании факта своего существования в мире, на имплицитном знании своего местонахождения в пространстве и времени, предопределенном спецификой культуры и национальной картиной мира, на мотивационной ориентации, на представлении о моральном порядке, формирующемся в соответствии с набором культурно-специфических критериев оценки собственного поведения и поведения других.
Идентичность – следствие открытого процес- са идентификаций, в которые человек вовлечен в ходе социализации и социальной адаптации, и по этой причине оно подвержено постоянной трансформации. Этническая идентичность как одна из идентификационных возможностей при определенных условиях или же их отсутствии способна вылиться в этнический догматизм или, напротив, индифферентизм.
В результате индивидуальной идентификации обнаруживаются некоторые признаки, типичные для определенной социальной группы, имеется в виду групповая идентичность. Одной из ее типов является языковая идентичность. С целью сплотить изнутри определенную социальную группу с помощью языка можно провести дистанцирование «мы» и «другие». Этот процесс отделения себя от других образует устойчивую антонимическую пару: понятие идентичности – понятие дистанцирования от других социальных групп.
Диспозиционные отношения всегда обусловливают явление дистанции, масштаб которой зависит от многих социальных, этнокультурных, этнопсихологических и других факторов. В диалогической философии разрабатывается проблема проксемики, изучающей дистанцию, на которой находятся собеседники (индивиды, социальные группы или даже культуры) и которая зависит во многом от этнической принадлежности. Наряду с физической проксемикой различают психологическую – степень психологической дистанции, лингвистическую и др.
Сокращение дистанции, нивелирование конфликтных ситуаций, снятие социальной напряженности достигаются при условии возможности и состоятельности диалога субъектов. Диалог культур – это процесс взаимодействия национальных картин мира, типов мировоззрения, это совокупность связей и отношений, которыми характеризуются разные культуры.
О. Надлер, актуализируя роль диалога как способа взаимного научения, выдвигает теорию о «диалоге метафор». Метафоре приписывается эвристический потенциал, и рассматривается она как конденсированная мыслительная форма. Результатом взаимодействия данных форм Надлер видит знакомство с разными типами мышления, разными картинами мира. В ходе диалога возможно достижение акта трансценденции, другими словами, перехода к более высокой метафоре, которая, в свою очередь, поглотит прежние соперничающие формы.
Диалектика результативности и процессуаль-ности составляет действительное содержание диалога культур, которые сами являются лишь структурным элементом взаимодействия. В.Д. Жукоцкий предложил формулу культурного континуума воплощенной субъективности индиви- да, способной к живому диалогу. При этом «познавательное действие фиксирует отношение субъекта к объекту (С – О), а действие понимания – диалога культур – образует отношение субъекта к субъекту (С – С), опосредованное объектом (О)» [5; 48]. Учитывая необходимость познавательного акта (начальной ступени) совершающегося диалога, выявляем отношение (С–О–С). Такая формула подчеркивает важность равновесного общения.
Ю. Хабермас рассматривает дискурс «свой-чужой» с позиции социокультурной природы и динамики коммуникации. Этика дискурса в теории Хабермаса – это этический результат теории общественного развития и теории коммуникативного действия: «Равное уважение к каждому распространяется не на себе подобных, но на личность другого или других в их инаковости. И солидарное ручательство за другого как за одного из нас соотносится с изменчивым «Мы» такой общности, которая сопротивляется всему субстанциональному и все шире развивает свои нечеткие границы» [14; 48]. Упростить межкультурные конфликты согласно теории Ю. Хабермаса возможно на основе рационализации коммуникативного действия, т.е. «жизненного мира». Необходимо рационализировать коммуникацию, не искаженную целенаправленным действием. «Это ведет к освобождению от господства, к свободному и открытому общению, к устранению ограниченной коммуникации» [6; 495]. Рационализация коммуникации воспринимается как освобождение «жизненного мира» от давления технико-инструментальной системы (от давления власти, от эгоцентрического успеха, меркантильности, корысти, целерационального действия). Освобожденный дискурс возвращает себе осмысленность и универсальность, обеспечивает аутентичность и моральную легитимность.
О моральных принципах взаимодействия культур по типу «свой – чужой» говорит диалогическая философия М. Бахтина. Нравственные отношения взаимоуважения, взаимотерпимости помогут избежать риска «онтологического одиночества неузнанности», а также риска эксплуатировать «чужого» в качестве инструмента самопознания. Диалоговые межкультурные коммуникации признают неизбежность встречи культур и одновременно их самобытность (неслиянность). «Онтологический, аксиологический и гносеологический векторы современной культуры сместились в сторону поликультурных форм социального бытия» [4; 11]. Современная диалогичная социокультурная реальность обнаруживает яркие тенденции интеграции в различных сферах культуры.
Очевидно, что диалог воспринимается сего- дня не только как форма взаимодействия культур, не только как закон семантического обмена, но и как возможность избежать ложных антигуманных представлений, как моральная установка, способность принятия «другого» в условиях, определяющих саму возможность его понимания, признания его точки зрения. Интерсубъективный диалог решает проблемы напряженности между «своим» и «чужим». Таким образом, общечеловеческая культура составляет необходимый идеальный план любой ее конкретноисторической формы взаимодействия с «другими» и обнаруживает при этом гуманистическую значимость.