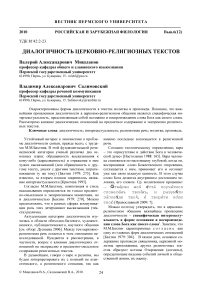Диалогичность церковно-религиозных текстов
Автор: Мишланов Валерий Александрович, Салимовский Владимир Александрович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 6 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Охарактеризованы формы диалогичности в текстах молитвы и проповеди. Показано, что важнейшим проявлением диалогичности в церковно-религиозном общении является специфическая интертекстуальность, представляющая собой осознание и воспроизведение слова Бога как своего слова. Рассмотрено влияние диалогических отношений на предметное содержание и экспрессию религиозных текстов.
Диалогичность, интертекстуальность, религиозная речь, молитва, проповедь
Короткий адрес: https://sciup.org/14728954
IDR: 14728954 | УДК: 81'42:2-23
Текст научной статьи Диалогичность церковно-религиозных текстов
Устойчивый интерес в лингвистике к проблеме диалогичности связан, прежде всего, с трудами М.М.Бахтина. В этой фундаментальной рече-ведческой категории ученый различал два основных плана: обращенность высказывания к кому-либо (адресованность) и отражение в нем чужих высказываний (или обращенность к другому тексту, диалог с другими текстами, затрагивающими ту же тему) [Бахтин 1979: 275]. Как известно, за вторым планом закрепилось название интертекстуальности [Кристева 1995].
Согласно М.М.Бахтину, композиция и стиль высказывания определяются не только предметно-смысловым и экспрессивным моментами, но и диалогичностью [Бахтин 1979: 270]. Можно предположить, что в разных сферах коммуникации роль этих детерминант высказывания (текста) различна.
Актуализация категории диалогичности изучалась в области обиходно-бытового, художественного, публицистического, научного общения [см. обзор: Дускаева 2006]. Между тем церковнорелигиозная речь остается в этом отношении неисследованной. Нуждается в рассмотрении, в частности, вопрос о влиянии диалогических отношений на экспрессию и предметно-смысловое содержание религиозных текстов.
В дальнейшем, говоря о вере и религии, мы будем интерпретировать их с позиций не атеистического, а религиозного сознания, так как именно последнее воплощается в религиозной речи.
Согласно теологическому определению, вера – это «присутствие и действие Бога в человеческой душе» [Настольная 1988: 165]. Вера человека становится по-настоящему глубокой, когда он, воспринимая слово Божественного откровения, соглашается с ним, принимает его и осознает уже как свою высшую ценность. В этом случае слово Бога делается внутренним достоянием человека, его словом. Ср. молитвенное прошение: ... T тве 1 рзи моя 2 u3 ста 2 поуча 1 тися словесе 1 мъ твои 1 мъ , и разум E1 ти за 1 пов E ди твоя 2, и 3 твори 1 ти во 1 лю твою 2 [Православный 2009: 7].
Можно поэтому утверждать, что в церковнорелигиозном общении важнейшее проявление диалогичности – специфическая интертекстуальность в форме осознания и воспроизведения слова Бога как своего слова 1. Заметим, что М.М.Бахтин характеризовал с о г л а с и е как одну из главных форм диалогических отношений [Бахтин 1979: 304]. В самом деле, основное содержание проповеди священника, церковной молитвы прихожанина, других религиозных текстов образуют истины Откровения (догматы), определяющие видение событий личной и общественной жизни, их оценку.
Обратимся к анализу диалогичности в текстах молитвы и проповеди как ядерных речевых жанрах исследуемой сферы общения.
Молитва . Специфичность молитвы как РЖ заключена в том, что говорящий (творящий или воспроизводящий молитву) выходит из сфер социального взаимодействия, а потому многое из того, что в речеведении и, в частности, в жанро-ведении расценивается как существенное с типологической точки зрения, оказывается несущественным для понимания природы и жанровой специфики молитвы [Мишланов 2003: 290].
По первичной коммуникативной функции молитва есть обращение к Богу с целью его восхваления, а также с той или иной просьбой или с благодарностью. Молитва, будучи основным способом общения верующего с Богом, есть в то же время важнейшая форма богопочитания. «Молитва… есть возношение ума и сердца к Богу, являемое благоговейным словом человека к Богу» [Библейская энциклопедия 1990: 484].
В реальной ситуации молитва - это общение без обратной связи (хотя нередко случается так, что совершающий молитву верующий воспринимает некоторые внутренние состояния и внешние раздражители как ответные знаки), а потому речевой акт, называемый молитвослови-ем, можно трактовать как род фатической коммуникации (самодовлеющего общения). Быть может, именно молитва является тем жанром, в котором фатическая функция языка реализуется в чистом виде. Коммуникативная цель и прагматический смысл молитвословия заключаются в том, чтобы автор речи сделался в мыслях причастным к Богу, к святым, к Царству Небесному, чтобы по-особому настроились его ум и сердце, чтобы достиг гармоничного состояния его внутренний мир [Мишланов 2003: 291].
Церковнославянский текст молитвы, произносимый верующим человеком «без поспешности и со вниманием сердечным», объективирует диалогическое отношение я – Ты (Бог), точнее, (я – Церковь) – Ты. Смысл уточнения состоит в том, что духовное состояние молящегося человека во многом определяется создателем молитвы – церковью.
Действительно, автором канонического текста молитвы является церковь в лице почитаемого ее представителя (в частности, святых Макария Великого, Иоанна Златоуста, Симеона Нового Богослова и др.), чьё обращение к Богу – образец религиозной духовности. Молящийся человек, произнося этот текст, должен «заключить в него» свой ум и свои чувства, по возможности возвысив их до церковного образца. В этом случае прошения молитвы станут его личными проше- ниями: Не попусти на меня, Владыко, Господи, искушение, или скорби, или болезнь свыше силы моей, но избавь от них или даруй мне крепость перенести их с благодарностью [Православный 2009: 173].
Можно, следовательно, утверждать, что в канонической молитве, читаемой верующим человеком по молитвослову или произносимой им наизусть, отношение я – Церковь п о л н о -с т ь ю и н т е р т е к с т у а л ь н о : мой (личный) текст стремится к тождественности с церковным текстом.
Но и церковный текст интертекстуален: его содержание и тональность (субъективная модальность) определяются текстом Откровения. Так, анализируя адресованность молитвы, легко заметить, что речевые формулы обращения к Богу или святым выражают догматы Священного Писания: Влады1ко человEколю1бче, гдsи вседержи1телю, цр9ю2 нбsный, u3тE1шителю, созда1телю и3 содE1телю человEче1скагw ро1да, да1телю благо-да1ти духо1вныя, пода1телю вE1чнагw спsнiя, многоми1лостиве и3 все-ми1лостиве бж9е мо1й, гдsи Q3и9се хрс9те, мно1гiя ра1ди любве2 сше1лъ и3 вопло-ти1лся e3си2…и др. [Православный 2009].
Обращение к Богу и последующие компоненты церковной молитвы – прославление (славословие), выражение благодарности, покаяние, прошение – формируют и утверждают во внут- реннем мире верующего человека те чувства, которые, согласно Откровению, должны определять его мироощущение и поступки. Это прежде всего чувства любви: …се1рдцемъ, мы1слiю же и3 душе1ю, и3 все1ю крE1постiю на1шею возлюби1мъ тя [Православный 2009: 175176]; благоговения: БлагоговEю и безмолвствую пред7 твоею св9то1ю во1лею и3 непостижи1мыми для менe2 твои1ми су1дьбами [там же: 174]; страха, трепета:
Внеза1пнw судiя2 прiи1детъ, и3 коегw1ждо дEя1нiя w3бнажа1тся, но стра1хомъ зове11мъ въ полу1нощи: свя1тъ, свя1тъ, свя1тъ e3си2 [там же: 6]; ран- га, собственного несовершенства: … благо-дарю2 тя2, св9та1я тр9це, y4кw мно1гiя ра1ди твоея2 бл9гости и долготерпE1нiя не прогнE1вался e3си2 на мя2, лEни1ваго и грE1шнаго [там же: 6]. Вместе с тем текст канонической молитвы предполагает полное подчинение воли человека воле Бога. Поэтому молящийся человек просит главным образом о помощи в реализации Божественных заповедей, в освобождении от грехов, тем самым о спасении: Сподо1би мя2 и4стиннымъ твои1мъ свE1томъ и3 просвEще1ннымъ се1рдцемъ твори1ти во1лю твою2: Дару1й ми зрE1ти моя2 прегрEше1нiя и3 не осужда1ти бра1та моего2: … по мно1жеству щедро1тъ твои1хъ w3чи1сти беззако1нiе мое2: …спаси2 мя2 и3 введи1 въ црс9тво твое1 вE1чное [там же: 12].
Итак, церковная молитва культивирует определенные эмоционально-волевые состояния верующего человека, те состояния, которые соответствуют библейским ценностям. С другой стороны, живые чувства, испытываемые к Богу и, следовательно, обнаруживающие диалогическую направленность сознания, определяют эмоциональную окраску речи. Налицо органичная связь адресованности и интертекстуальности молитвы, определяемая спецификой веры. Действительно, по религиозным представлениям, внутренняя или вербализованная обращенность человека к Богу – сущностное проявление человеческой души, поскольку в нее вложено чувство истины, которая узнается как нечто близкое, родное, давно забытое [Настольная 1986: 10]. Душа человека стремится к Истине (к Богу). В этом заключаются глубинные истоки адресованности молитвенного текста. Вместе с тем духовно-религиозное развитие человека обязательно предполагает знакомство со словом Откровения и принятие этого слова, поэтому молитвенная обращенность к Богу обусловлена и интертекстуально.
Для изучения форм диалогичности церковнорелигиозной речи существенно, что молитва может быть адресована также Богородице, святым, ангелам, которых верующий человек просит быть ему заступниками перед Богом. В этом случае диалогические отношения реализуются в форме: я – Ты (святой или ангел) – Он (Бог). Примеры: Восп E ва 1 ю бл 9 годать твою 2, влд 9 чице … душетл E нныхъ мя 2 па 1 кост i й и 3 зба 1 ви , хрс 9 та прилежн w u3 моля 1 ющи : св 9 тый а 3 г 9 гле … вся 2 мн E2 прости 2 … моли 1 ся за мя 2 ко гп s ду [Православный 2009: 15-17, 18-19].
Модификацией элемента «я» нередко выступает «мы» («наш») как проявление соборного сознания: …и3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1ша, y3коже и3 мы2 w3ставля1емъ должникw1мъ на1шымъ: m св9ты1й u3го1дниче бж9iй, св9щенному1чениче кqпрiа1не… прiими2 t на1съ, недосто1йныхъ, хвале1нiе на1ше [Православный 2009: 179-180]. Вместо компонента «Он» может реализоваться компонент «Они» (Бог, и святые): Агг9ле хрс9то1въ… да досто1йна мя2 пока1жеши бл9гости и3 ми1лости всесв9тыя тр9цы и мт9ре гпsда моегw2 Q3и9са хрс9та и3 всE1хъ св9ты1хъ [там же: 44].
Свободная молитва, как и каноническая, если она произносится человеком, достигшим высокого уровня духовного развития, основана на догматах Откровения и имеет целью сближение с Богом (спасение). Ср.: Господи, ты являешь нам бесконечную милость и любовь. Ты с великим долготерпением ожидаешь покаяния и исправления нашего. Научи и меня от сердца простить ныне всем, кто когда-либо оскорбил и обидел меня. Ибо ты, Господи, оставляешь долги только тем, кто сам умеет оставлять должникам своим . – Протоиерей Артемий Владимиров.
Итак, диалогичность молитвы – адресован-ность Богу и интертекстуальность – определяет ее эмоциональную окраску, создаваемую выражением в речи религиозных чувств, и в значительной степени обусловливает ее предметное содержание.
Проповедь . Основная форма диалогичности текстов проповеди – я (священник) – вы (либо ты в обобщенном значении). Например: Призыва ю вас в этот священный день…усугубить свою молитву… [Архимандрит Кирилл 2003: 416]. Компонент «я» не обязательно должен быть выражен лексически или грамматически. Его единственным маркером во многих случаях является сама авторская речь (говорение от своего лица): Помни все это, христианин… и ты приобретешь благонадежнейшее средство к препобеждению искушений и напастей [Архимандрит Кирилл 2003: 370].
Зачастую учет адресата становится механизмом развертывания текста. Так, пастырь, хорошо понимающий своих слушателей, «угадывает ответные движения их душ на его слова и отвечает на немые вопросы слушателей» [Настольная 1986: 20]. Например, проповедник, произнося слова: «Если видишь ближнего согрешающим, отвращайся от греха, но не от брата», предугадывает вероятный вопрос адресата: «Но если ближний причиняет зло мне?». Этим определяется следующее высказывание священника: «Если согрешающий враждует с тобой… мысленно возьми его грех на себя и кайся в нем». И снова проповедник предвидит мысленную реакцию собеседников: «Это выше моих сил!». Ответом на нее становится новое высказывание: «Возможно, ты сам дал ближнему повод к соблазну», и т.д. [там же: 21]. Мысленные вопросы слушателей могут быть эксплицированы в авторской речи: Вы спросите: а р а з в е д у ш а н е б е с с м ер т н а ? Конечно, бессмертна… [Мень 1991: 131]; В момент крещения в душу ребенка сеется благодатное семя. Пусть сознание его еще спит, но Дух освящает все его существо. А ч т о бу д е т п о т о м ? Посеянное должно быть взращено [там же: 139]. Важно отметить, что ответ священника на такого рода вопросы представляет собой изложение церковного учения. Иными словами, речь проповедника и в этом случае интертекстуальна.
Таким образом, если светский оратор в своих суждениях исходит из личных взглядов, то «основным источником содержания пастырской проповеди является слово Божие» [Феодосий 1999: 168]. Можно поэтому сказать, что при обращении священника к пастве с проповедью в диалогическую форму я – вы обязательно включается компонент Он (Бог) . В результате реализуется форма диалогичности я – Он – вы.
Отношение проповедника к слову Откровения как к безусловной истине предполагает модальность несомненности, достоверности сообщаемого [Кожина, Дускаева, Салимовский 2008: 421-422]: «Бог смерти не сотворил» и, разумеется , грех не может исходить от Того, Кто есть высшее Добро; Мы знаем , что слово Господне истинно [Мень 1999: 119, 122].
Нужно отметить, что в диалогической форме я – Он – вы коммуникативной доминантой является отношение Он – вы . Проповедник же «всего лишь проводник богооткровенного учения…» [Феодосий 1999: 196]. Рассмотрим пример:
Дорогие братья и сестры, помн ите слова Господа : Бл 9 же 1 ни и 4 згнани пра 1 вды ра 1 ди , y4 к w т E1 хъ e4 сть Црс 9 тв i е Нб s ное . Бл 9 жени e3 сте 2, e3 гда 2 поно 1 сятъ ва 1 мъ и 3 и 3 ждену 1 тъ , и 3 реку 1 тъ всякъ z о 1 лъ гла-го 1 лъ на вы 2 лжу 1 ще , мен e2 ра 1 ди . Помн ите это для того, чтобы вам всегда быть готовыми к перенесению неприятностей, оскорблений и других страданий на пути спасения… не смущ айте сь и не скорб ите , если придется испытать ради Христа те или другие неприятности. Утеш айте сь словами Господа Спасителя … [Архимандрит Кирилл 2003: 358].
Из текста видно, что роль проповедника, его авторского «я» состоит в том, чтобы познакомить слушателей со словами Бога, истолковать эти слова, призвать паству жить в соответствии с ними, помочь сближению души каждого слушателя с Богом. Между тем основными участниками коммуникации являются Он (Бог) и прихожане.
Существенно при этом, что священник и паства, объединенные Божественным словом, осознают себя как члены единой общины. Поэтому в проповеди священник, сохраняя свой голос, очень часто трансформирует отношение я – вы в соборное «мы». В этом случае коммуникация осуществляется в соответствии с формой я – Он (Бог) – мы . Например:
Так всемогущ Господь и так благ и милостив Он к нам , грешным [Архимандрит Кирилл 2003: 343].
Когда Господь молился за Своих учеников, то Он говорил: <…> Господь и призывает нас через единение с Богом к единению между собою. Чтобы по примеру единения и любви Лиц Святой Троицы и у нас между собою было бы совершеннейшее единение в мысли, в слове и в деле. В нашей душе живет Бог, мы являемся храмом Божиим… [Архимандрит Кирилл 2003: 450-451].
Компонент «он» может быть представлен не только Богом, но и апостолом, святым, праведником, которые, сближаясь с Богом, выражают истины христианского учения и служат примером для верующих. Форма диалогичности в этом случае Он1 (Бог) – он2 (апостол, святой) – мы :
Господь говорит: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними»… Апостол Павел говорит: «…Вот какие побуждения располагают нас любить врагов своих. …помня эти наставления Господни , постара ем ся уразуметь их, напечатлеть их на своих сердцах» [Архимандрит Кирилл 2003: 71, 73-74];
Святой апостол Иаков говорит: «Желаете – и не имеете… потому что не просите…» <…> «Без меня не можете делать ничего», – говорит Спаситель <…> Чтобы был успех наших дел, мы должны просить всегда Божия благословения… при неудачах же не буд ем предаваться малодушию и унынию [Архимандрит Кирилл 2003: 536, 538].
Элемент «он2» может представлять и враждебные Богу силы, обличаемые в проповеди:
… Диавол прекрасно знает нашу немощь и сластолюбие, у него восемь тысяч лет опыта, вот он и внушает, что блуд – вовсе не грех… [Архимандрит Амвросий 1994: 87].
Следует отметить, что диалогическая форма я – Он (Бог, святой) – мы , наряду с формой я – Он – вы , широко используется при выражении различных видов деонтической модальности
(призыва, назидания, мольбы). Примеры: Пусть наша общая молитва сольется в единый плач ко Господу ; …извлеч ем из этого празднования для себя то назидание, что святых мы должны благоговейно чтить… ; Стара йте сь делать к пользе ближнего все, что можете делать. Помог айте всякому, кому чем мож ете и сколько мож ете [Архимандрит Кирилл 2003: 308, 317, 339].
Таковы основные формы диалогичности церковной проповеди. Оговорим, однако, что во многих случаях проповедь включает фрагменты евангельских повествований (сообщения о фактах и событиях церковной истории, притчи и др.), коммуникативная структура которых может стать предметом специального изучения.
Важно отметить, что само назначение текстов проповеди – в полном и систематизированном виде довести до людей откровение Бога – определяет их содержание. Действительно, предмет проповеди представляет собой некоторую область христианского учения, тогда как практические наставления священника являются нравственными выводами из рассматриваемых им религиозных истин. Ср. отражение последних в заглавиях текстов: «Рождество Христово», «О Святой Троице», «Неделя о Страшном Суде», «О любви к Богу», «О прощении обид» и др. [Архимандрит Кирилл: 2003].
Резюмируем сказанное. Вера в ее теологическом истолковании диалогична, поскольку она, будучи присутствием и действием Бога в человеческой душе, предполагает знакомство человека со словом Бога, согласие с этим словом, превращение его в свое слово. Отсюда специфическая интертекстуальность религиозной речи, объективирующей христианское учение. В основных чертах она детерминирует предметное содержание религиозных текстов. При этом в канонической молитве церковное слово переживается и произносится верующим человеком как свое слово, а в проповеди слово Откровения изъясняется пастырем с целью духовного воздействия на слушателей.
Основные формы диалогичности текстов молитвы – «я – Ты (Бог)»; «я – Ты (святой или ангел) – Он (Бог)». Для проповеди наиболее характерны диалогические формы « я – Он (Бог) – вы, ты», «я – Он (Бог, святой) – мы», « я – Он1 (Бог) – он2 (апостол, святой) – мы».
Диалогичность церковно-религиозных текстов во многом определяет не только их предметное содержание, но и экспрессию. Так, тональность этих текстов создается прежде всего выражением отношения верующего человека к Богу – уверенности в существовании Бога, вер- бализацией чувств любви, благоговения, трепета и др., а также реализацией коммуникативных интенций мольбы (при обращении к Богу), побуждения, назидания, увещевания и др. (в общении священника с прихожанами). Оценочность речи определяется позитивным или отрицательным отношением верующего человека к тем или иным фактам, событиям как помогающим или препятствующим осуществлению союза между Богом и человеком.
1 Мы говорим об интертекстуальности в узком значении термина – не как о фундаментальном свойстве всякого речевого произведения, а как о включенности в текст фрагментов некоторых известных пред-текстов – Библии, сочинений святых отцов, литургической поэзии.
Professor of General and Slavonic Linguistics Department
Perm State University
Vladimir A. Salimovsky
Professor of Speech Communication Department
Perm State University
Список литературы Диалогичность церковно-религиозных текстов
- Архимандрит Амвросий (Юрасов). Слово утешения. Проповеди. Иваново: Свято-Введен. жен. монастырь, 1994. 127 с.
- Архимандрит Кирилл (Павлов). Проповеди. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. 560 с.
- Бахтин М.М. Проблема речевых жанров//Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 237-280.
- Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках//Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 281-307.
- Библейская энциклопедия. Трудъ и изданiе архимандрита Никифора. М., 1891 (Репринтное издание: М., 1990).
- Дускаева Л.Р. Диалогичность речи//Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта, Наука, 2006. С. 45-53.
- Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. М.: Флинта, Наука, 2008. 464 с.
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман//Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1995. №1. С. 97-124.
- Мень А. Православное богослужение:Таинство, слово и образ. М.: «Слово», 1991. 190 с.
- Мишланов В.А. Молитва как речевой жанр//Прямая и непрямая коммуникация. Сб. научных статей. Саратов: Изд. «Колледж», 2003. С. 290-302.
- Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 1986. Т. 5. 814 с.
- Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 1988. Т. 6. 880 с.
- Православный молитвослов на всякую потребу. М.: Духовное преображение, 2009. 192 с.
- Феодосий. Епископ Полоцкий и Глубокский. Гомилетика. Теория церковной проповеди. Сергиев Посад: Изд. Моск. духовной академии, 1999.