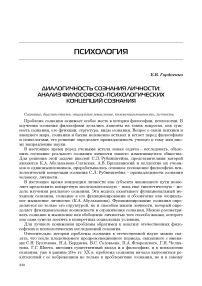Диалогичность сознания личности: анализ философско-психологических концепций сознания
Автор: Гордиенко Елена Викторовна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 3 (17) т.1, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу проблемы индивидуального сознания. В ретроспективе рассматривается понимание диалогичности индивидуального сознания. Обосновывается попытка нахождения синтеза двух подходов: подход к сознанию как к индивидуальной личностной способности и подход к сознанию как связанному с межличностными отношениями, с общественным сознанием.
Сознание, диалогичность, социальное мышление, коммуникативность, личность
Короткий адрес: https://sciup.org/144153250
IDR: 144153250
Текст научной статьи Диалогичность сознания личности: анализ философско-психологических концепций сознания
Сознание, диалогичность, социальное мышление, коммуникативность, личность.
Проблема сознания занимает особое место в истории философии, психологии. В изучении сознания философами делались акценты на таких вопросах, как сущность сознания, его функции, структура, виды сознания. Вопрос о связи психики и внешнего мира, сознания и бытия неизменно вставал и встает перед философами и психологами, его решение определяет принадлежность ученого к тому или иному направлению науки.
В настоящее время перед учеными встала новая задача – исследовать, объяснить состояние реального сознания личности нашего изменяющегося общества. Для решения этой задачи школой С.Л. Рубинштейна, представителями которой являются К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский и коллектив их учеников и единомышленников, прорабатывалось основное положение философско-психологической концепции сознания С.Л. Рубинштейна – принадлежности сознания человеку, личности.
В настоящее время концепция личности как субъекта жизненного пути позволяет представить конкретную исследовательскую – пока еще гипотетическую – модель изучения реального сознания. Эта модель охватывает функциональный механизм сознания, сознание в его функционировании и обозначена как «социальное мышление личности» (К.А. Абульханова). Функционирование сознания определяется не только его структурой, но и способом жизни личности, который определяет функциональные возможности и ограничения сознания. Можно рассматривать сознание и мышление как обобщение личностью того способа жизни, которого она сама сумела достичь в конкретных социальных условиях.
Для лучшего понимания проблемы обратимся к анализу отечественных философских и психологических исследований сознания.
Относительно истории проблемы сознания в отечественной науке можно сказать, что после плодотворного предреволюционного периода, связанного с именами С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, Г.И. Челпа-нова, Г.Г. Шпета, внесших существенный вклад и в философию, и в психологию сознания, уже в ранние 20-е гг. XX в. проблема сознания начала вытесняться реактологией с ее небрежением не только к проблематике сознания, но и к самому сознанию и психоанализом с его акцентом на изучение подсознания и бессознательного. Проблемами сознания частично продолжали заниматься П.А. Флоренский и Г.Г. Шпет, работы которых в то время не оказали сколько-нибудь заметного влияния на развитие психологии.
Появление в середине 20-х гг. XX в. фигуры М.М. Бахтина, целью которого было понимание сознания, его природы, функций, связи с языком, имело свои серьезные последствия на долгие годы.
М.М. Бахтин, занимаясь вопросами сознания, выдвинул важнейший принцип диалогизма, который имеет непосредственное отношение к проблеме «Я». Исходя из того, что «образ Я» – интериоризированное общение, он должен отражать специфику общения – диалогичность. Интериоризируясь, общение во внутреннем развитии личности способствует выработке отношения к самому себе, дает возможность переоценивать и видоизменять собственный опыт, глядя на себя «глазами других». Отправляясь от идей М.М. Бахтина, мы обосновываем цель нашего исследования его словами: «…мы на каждом шагу оцениваем себя с точки зрения других… Одним словом, мы постоянно и напряженно подстерегаем, ловим отражения нашей жизни в плане сознания других людей» [Бахтин, 1979, с. 16–17]. Далее автор продолжает: «Эти могущие нас завершить в сознании другого моменты, предвосхищаясь в нашем собственном сознании, теряют свою завершающую силу, только расширяя его в его собственном направлении… Взглянув на себя глазами другого, мы в жизни снова всегда возвращаемся в себя самих, и последнее, как бы резюмирующее, событие совершается в нас в категориях собственной жизни» [Бахтин, 1979, с. 17]. Таким образом, мы можем сказать, что наше сознание существует во внутреннем диалоге: мы осознаем себя личностью, вырабатываем отношение к себе опосредованно, формируем и отстаиваем личные позиции, но это происходит тогда, когда мы наблюдаем за собой, наблюдаем за другими и представляем себя, свой образ в «глазах других». И именно диалогичность сознания имеет большое значение в создании нашего образа Я как ядра индивидуального сознания личности.
Однако эти плодотворные идеи М.М. Бахтина долгие годы не находили развития, и, более того, в известном смысле, «перекрылись» знаковым содержанием его концепции, которая подвергается критике А.В. Брушлинским. На первый взгляд знаковый характер сознания также непосредственно связан с общением и тем самым с диалогом. Но, будучи формализованы, сведены к языковым формам, знаки приобретают абстрактный универсальный характер, что уводит от проблем живого диалога в конкретном индивидуальном сознании.
В 30-е гг. XX в. психология практически перестала заниматься сознанием и тем более бессознательным. В сложившихся идеологических условиях изучать сознание стало опасно, и его исследования ограничились такими относительно нейтральными темами, как исторические корни возникновения сознания и его онтогенез в детском возрасте.
Несмотря на всю сложность ситуации, С.Л. Рубинштейн разрабатывает основы психологии, где рассматривает психику, сознание и личность с позиций принципа развития. В труде «Основы общей психологии» С.Л. Рубинштейна раскрываются в единстве все существующие аспекты развития: исторический, антропогенетический, онтогенетический, филогенетический, функциональный аспекты развития психики и бытийно-биографический – развития личности. Система психологии разрабатывается и представляется им через иерархию все усложняющихся в деятельности психических процессов и образований. Принцип единства сознания и деятельности предполагает раскрытие этого единства в аспекте функционирова- ния и развития сознания через деятельность. Ученый отмечает, что качественное изменение строения психики, сознания, личности и т. д. на каждой последовательной стадии их развития, т. е. появление новообразований и, более того, возникновение нового способа функционирования, в свою очередь, зависят не от имманентно складывающегося соотношения стадий, а от характера функционирования. Это и есть применительно к человеку проявление и формирование сознания в деятельности в зависимости от активности субъекта последней [Рубинштейн, 1998, с. 652–653].
Принцип единства сознания и деятельности тоже выступает во множестве аспектов, выполняя как позитивные, так и критические функции. Через этот принцип раскрывается принадлежность сознания действующему субъекту, который относится к миру благодаря наличию у него сознания. С.Л. Рубинштейн определяет сознание (и психику в целом) как единство знания и переживания, отражения и отношения, тем самым преодолевая гносеологизацию сознания, которая стала доминировать в официальной философии.
Определение сознания как предметного и как субъектного, т. е. выражающего отношение личности к миру, трактовка сознания как высшего уровня организации психики, которому, в отличие от других уровней, присущи идеальность, «предметное значение, смысловое, семантическое содержание», понимание сознания как детерминированного одновременно общественным бытием индивида и общественным сознанием выявляют продуктивные противоречия его движения. Генезис и диалектика трех отношений субъекта – к миру, к другим и самому себе – вскрывают основу самосознания и рефлексии сознания индивида. Соотнесение сознания с нижележащими уровнями психики позволяет понять его роль как их регулятора, а также как регулятора целостной деятельности субъекта в его соотношении с миром.
Это положение о регуляторной функции сознания также является отличительным признаком концепции С.Л. Рубинштейна. Сознание не просто высшее личностное образование, оно осуществляет три взаимосвязанные функции: регуляцию психических процессов, регуляцию отношений и регуляцию деятельности субъекта. Сознание, таким образом, высшая способность действующего субъекта [Рубинштейн, 1998, с. 656–657].
Возврат к проблематике сознания произошел во второй половине 50-х гг. XX в., прежде всего благодаря трудам С.Л. Рубинштейна. С этого времени ведутся интересные исследования проблем сознания другими философами и психологами (К.А. Абульханова-Славская, В.П. Зинченко, А.Г. Спиркин, И.И. Чеснокова, Е.В. Шорохова и др.). Этими учеными основательно исследована, в частности, сущность сознания в контексте взаимодействия субъекта и объекта, общества и природы. Раскрыт и убедительно показан общественный характер индивидуального сознания как исторического продукта деятельности всего человечества.
К.А. Абульханова-Славская рассматривает проблему индивидуального и общественного сознания, связывая специфику сознания с ценностями и значениями, которые приобретают в индивидуальном сознании индивидуально-особенный смысл. Одним из основных вопросов изучения сознания является вопрос о том, какие механизмы индивидуального сознания являются только констатирующими то, что задано общественным сознанием, а какие – представляют собой активную интеллектуальную сознательную работу личности, ее мышления [Абульханова-Слав-ская, 1991, с. 192]. К.А. Абульханова-Славская выделяет составляющие общественного сознания, которые усваивает индивид, то, что представляет собой «констатирующую» часть его сознания:
Усваивая речь и развиваясь, ребенок осваивает то, что составляет все особенности человеческой культуры, человеческого способа действия и образа жизни и что впоследствии уходит в подсознание. Различные общественные условности, традиции, которые проникают из общественного сознания и закрепляются в индивидуальном подсознании. Третья общественная составляющая сознания связана с получаемой индивидами информацией, которая необходима для нормального функционирования и поведения в обществе. Эта информация требует только принятия к сведению, поэтому не вызывает активной работы сознания. Четвертая составляющая есть результат отражения общественной жизни, социальных процессов и представляет собой ее определенную трактовку, интерпретацию. Это есть идеология в широком смысле слова.
Индивидуальное сознание, по мнению К.А. Абульхановой-Славской, выступает в разных качествах – образования, способности, процесса осознания. Далее подчеркивается, что сознание как способность личности – «активная теоретическая деятельность индивидуального сознания, интеллектуальное осмысление индивидом социальной действительности начинается тогда, когда он, во-первых, становится активным членом общества, во-вторых, теоретическая работа индивидуального сознания связана с его основной функцией – функцией обеспечения самоопределения, индивидуального способа жизни личности в обществе, осознания ее жизненного пути. То есть можно выявить такую зависимость для индивидуального сознания: чем более индивидуализирован общественный способ жизни и действия людей, тем более индивидуальному сознанию свойственна подлинно теоретическая работа, а не простая констатация. И, соответственно, чем более самостоятелен способ жизни личности, тем более конструктивно, активно индивидуальное сознание» [Абульханова-Славская, 1991, с. 194].
Таким образом, индивидуальное сознание в соответствии с разным характером связей с общественным имеет две стороны: констатирующую («навыки» общественной жизни, информация, идеологические позиции, которые в совокупности можно назвать социальными знаниями) и творческую (когда личность размышляет, анализирует, обобщает).
При дифференциации этих разных сторон индивидуального сознания – констатирующей и активной – для обозначения этой второй функциональной стороны индивидуального сознания К.А. Абульханова-Славская вводит понятие «социальное мышление». Коммуникативная особенность социального мышления и сознания выражается в его диалогичности. «Однако коммуникативность мышления личности имеет, по крайней мере, три все более усложняющихся качества. Первое состоит в самой мысленной адресованности к другому человеку, в оценке его позиции и в учете его самого при мысленном рассмотрении проблемы. Второе состоит в предвосхищении, т. е. в прогнозировании, в ожидании мнений другого человека, его оценок, понимания, суждений. Третье состоит в степени развития способности и склонности к диалогу» [Абульханова-Славская, 1991, с. 213].
Для индивидуального сознания и его закономерной организации характерно наличие трех составляющих: отношение к себе, к другим и, наконец, ожидание отношения других к себе. На первый взгляд, отмечает К.А. Абульханова-Славская, третье отношение нельзя включить в структуру индивидуального сознания, потому что отношение других людей к данному человеку от него не зависит и является их отношением к нему, то есть внешним для него. На самом же деле, в сознании возникла и существует своеобразная способность «отклика» на это отношение, то есть ожидание, предвидение, желание того, как другие отнесутся ко мне. Согласно концепции М.М. Бахтина, сознание — диалог. Диалог не только внешний, но диалог внутренний, отраженный в самой структуре сознания: высказывая свое, человек предвидит, предчувствует, мыслит о возражении, мнении другого, имеет его в себе. Описывая триадическую структуру сознания, К.А. Абульханова-Славская опиралась на эту идею М.М. Бахтина, так же как на идеи С.Л. Рубинштейна о трех ведущих жизненных отношениях, на идеи Дж. Мида и др. Однако обнаружилось, что теоретически построенная для всех людей структура сознания — это одно, а реальные структуры сознания реальных людей, живущих в ту или иную эпоху, — это совсем иное. Они претерпевают деформацию в силу социального давления, социального способа жизни в данном обществе [Абульханова-Славская, 1999, с.129].
Исследования, проводимые лабораторией психологии личности Института психологии РАН под руководством К.А. Абульхановой-Славской, коммуникативных характеристик активности (инициативы и ответственности) личности показали, что соотношение этих составляющих у разного типа людей оказывается очень различным. Одни типы, критически оценивая самих себя, позитивно — окружающих, в большей степени нуждаются в их оценке, мнении. Другие, наоборот, очень высоко оценивают себя, пренебрежительно относясь к окружающим, не нуждаясь в их оценках как отрицательных, так и положительных. Эти типы — крайние. Между ними находятся такие, например, которые улавливают только положительное мнение о себе, но остаются глухими к критике, и те, которые зависят от оценок в исключительной или меньшей степени, прислушиваясь ко всякого рода отзывам о себе. Эти данные показывают, что, благодаря различным структурам своего сознания, разные люди совершенно по-разному трактуют и свое положение среди людей, и трактуют его иногда весьма субъективно [Абульханова, 1999, с. 129—130].
Данные исследований показали, что только у одного типа людей представлены в сознании все три вида отношений (к другим, к себе, других к себе), гармонично связанные друг с другом. У остальных типов отсутствовало (или было слабо выражено) одно из отношений [Абульханова-Славская, 1999, с. 30].
Предполагалось, пишет К.А. Абульханова-Славская, что для активности личности и последующего структурирования, моделирования ею социально-психологического пространства, структурирования деятельности, поведения существенно: 1) преобладает ли одно из отношений сознания (к себе, к другим или других к себе); 2) оказывается ли оно фиксированным по типу установки или проблемным, рефлексивным, то есть заново подлежащим осмыслению и разрешению личности. Если в структуре сознания доминирует отношение к себе, то активность начинает строиться как доминирование над другими, лидирование и т. д.
В результате этих исследований можно констатировать следующее.
-
1. Гармоническая связь всех трех отношений в сознании обеспечивает социально-психологическую и личностную способность к регуляции общения, когнитивное планирование взаимоотношений, способность согласования собственных действий и встречной активности.
-
2. Попарная связь отношений (к себе, к другим и других ко мне) в разных сочетаниях может обеспечить регуляцию коммуникации при таких условиях: а) если отношения имеют диалогический, обратимый характер, б) если их связь противоречива, амбивалентна.
-
3. Отсутствие личностной способности сознания регулировать взаимоотношения, а потому лишь стихийное, эмпирическое их осуществление связано с установочными типами связей в структуре сознания [Абульханова-Славская, 1999, с. 62].
-
4. Именно принятие другого человека в качестве объекта или субъекта определяет и тип взаимоотношений с ним: строятся ли эти отношения как проблемные, когда предусматривается возможность встречного ко мне отношения, другого мнения, не совпадающего с моим (и тогда-то должна быть решена проблема их согласования), или они складываются стихийно, прагматически [Абульханова-Славская, 1999, с. 93–94].
Таким образом, сознание – целостное явление, но вместе с тем оно существует на нескольких уровнях, что требует особого осмысления вопроса о его структуре. В нашем исследовании важнейшей характеристикой сознания является его диалогичность. Раскрытие диалогичности сознания предполагает выявление соотношения его личностных и межличностных характеристик. Для решения последнего вопроса нужно преодолеть подход к сознанию только как к индивидуальной личностной способности и столь же односторонний подход к нему как связанному исключительно с межличностными отношениями, с общественным сознанием. В данном исследовании предпринимается попытка нахождения синтеза этих подходов.