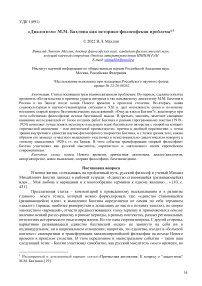"Диалогизм" М.М. Бахтина как историко-философская проблема
Автор: Махлин В.Л.
Журнал: Бахтинский вестник @bakhtiniada
Рубрика: М.М. Бахтин: проблемы создания научной биографии
Статья в выпуске: 2 (8), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена трем взаимосвязанным проблемам. Во-первых, сделана попытка прояснить обстоятельства и причины утраты интереса к так называемому диалогизму М.М. Бахтина в России и на Западе после конца Нового времени в прошлом столетии. Во-вторых, новая социокультурная и научно-гуманитарная ситуация в XXI в. дает возможность снова и по-новому поставить старый вопрос бахтиноведческих исследований: «Откуда взялся Бахтин?», акцентируя при этом собственно философские истоки бахтинской мысли. В-третьих, наконец, заметное смещение внимания исследователей от более поздних работ Бахтина к ранним (программным) текстам (1919-1924) позволяет лучше понять исходную и ведущую идею бахтинского авторства с опорой на концепт «причастной автономии - или автономной причастности», причем в двойной перспективе: с точки зрения внутреннего единства научно-философского творчества Бахтина, и с точки зрения того, каким образом его замысел «участного мышления» участвовал в экзистенциально-диалогическом повороте к «новому мышлению» 1920-х гг. на Западе. В этом событии трансформации «первой философии» Бахтин участвовал как русский мыслитель, «причастно» и «автономно» своим европейским современникам
Конец нового времени, причастная автономия, диалог/диалогизм, автор/авторство, новое мышление, "первая философия", бахтиноведение
Короткий адрес: https://sciup.org/147248315
IDR: 147248315 | УДК: 1(091)
Текст научной статьи "Диалогизм" М.М. Бахтина как историко-философская проблема
Постановка вопроса
В конце жизни, оглядываясь на пройденный путь, русский философ и ученый Михаил Михайлович Бахтин записал в рабочей тетради: «Единство становящейся (развивающейся) идеи. Моя любовь к вариациям и к многообразию терминов к одному явлению...» [10, с. 431].
Предлагаемая статья – комментарий к приведенному высказыванию и в развитие главного моего тезиса, который можно формулировать так: «единство становящейся (развивающейся) идеи» в мышлении Бахтина определяется не самим по себе термином «диалог» (правда, наиболее развернутым в дошедших до нас его поздних текстах), но скорее множеством «вариаций», отчасти предшествовавших этому термину и применяемых к одному явлению всякий раз по-разному в разные периоды, в разных контекстах, разных региональных онтологиях исторического опыта мира жизни. Но это одна сторона вопроса. С другой стороны, вариативно развивавшееся единство бахтинской «идеи» не замкнуто на себя ни в индивидуальном, ни в национальном отношении; напротив, это единство, входит в «большой контекст» самокритики и трансформации западноевропейской философии на исходе Нового времени в прошлом столетии. В этом переломном и магистральном событии – таков наш следующий тезис – Бахтин участвовал самобытно, как русский мыслитель своего времени, но как бы выпавший из времени события и даже из собственной биографии, начиная (по его позднейшему признанию), «конечно, не с детства, не с юности, а с Октябрьской революции» [5, с. 219].
Двусторонняя постановка вопроса - персональная и историко-философская -позволяет, как кажется, лучше понять принципиальное единство бахтинского авторства и возобновить старый вопрос бахтиноведческих исследований - «Откуда взялся Бахтин?» - в историко-систематическом измерении. Вопрос стоит так: каким образом в условиях «рассечения» русского мира жизни и мысли в советский век было возможно прерывистое и все же непрерывное единство развития бахтинской научно-философской программы в применении к некоторому устойчивому феномену, выраженному разнообразными терминами и указывающему на одну и ту же развивающуюся идею ? Тот же вопрос, но как бы с другого конца: каким образом так понятая «идея», по гротескному выражению самого Бахтина, «выходит сама за себя» и отражает трансформацию большой философии на исходе Нового времени, тот «решающий поворот», или перелом, который немецкий современник русского мыслителя Ганс-Георг Гадамер (1900-2002) определил в своем обращении «К русским читателям» (1991), как «переход от мира науки к миру жизни» [14] в самом научнофилософском познании?
Переориентация
Такая постановка вопроса требует, как кажется, определенной методической переориентации в понимании того, что такое «диалог» вообще и так называемый «диалогизм» Бахтина в частности и в особенности. Как раз теперь, когда слово -понятие «диалог», похоже, почти утратило прежнюю перспективу в научном и в общественном сознании современности, целесообразно вернуться к конкретно-историческим истокам этого термина у Бахтина и у его современников для того, чтобы вскрыть импликации и мотивации этого термина, «заставленные» (по слову молодого Хайдеггера) инерцией словоупотребления, и освободить утраченные возможности понимания, по бахтинскому выражению, «из плена времени» во времени же (т. е., по-бахтински, в «большом времени»).
Всем примерно известно, что такое «диалог»; менее исследованы и оценены, многочисленные вариации , посредством которых Бахтин описывал на протяжении своего творческого пути принципиальное для него «явление», по-разному его именуя. Мало того, до сих пор не вполне понята взаимосвязь этих «вариаций» с традиционным термином «диалог». Кроме того, приходится учитывать изменение восприятия этого термина за последние десятилетия. Ведь даже устойчивый термин, как отмечал А.В. Михайлов, не остается однозначным и самодостаточным в истории своего применения: он расширяет или, напротив, теряет свое значение в новых социально-исторических контекстах. Если в последние десятилетия прошлого века «диалог» был едва ли не общезначимым и даже модным понятием-лозунгом, выражавшим или подразумевавшим возможности и перспективы расширения границ индивидуального и национального сознания и у нас, и по-своему на Западе, - то после конца Нового времени идея диалога, по выражению из Достоевского, «погасла в уме», наложив на общественное, интеллектуальное, эстетическое, политическое сознание отпечаток подспудного, но тем более глубокого разочарования [см.: 20].
Между тем проблематика диалога снова и по-новому открывается сегодня и вопреки, и благодаря общественной умонастроенности и публичной риторике. Социальная атмосфера, конечно, влияет, среди прочего, также и на науки общественно-исторического опыта мира жизни (чаще называемые гуманитарными), влияет и на отношение к наследию Бахтина. Филологи, открывшие этого автора в минувшем столетии с «опозданием» на сорок, пятьдесят, семьдесят лет, в большинстве своем как бы вдруг оступились о трудности его авторства и зачастую морщатся теперь при упоминании его имени. Философы еще только нащупывают место этого мыслителя в истории философии от Платона и Аристотеля до Гуссерля, Шелера, Гадамера и других мыслителей ХХ в. Во фрагменте начала 1940-х гг. «Риторика, в меру своей лживости...» Бахтин записал: «Самое несвоевременное бывает самым свободным, самым правдивым, самым бескорыстным. Сегодняшний день не может не лгать» [9, с. 65-66]. Обсуждение наследия Бахтина в последние десятилетия явно сместилось в сторону философских истоков и источников; достаточно упомянуть новейшие работы отечественных и зарубежных исследователей: А. Аванесова, А. Вайман, А. Гуссейнова, И. Дворкина, И. Дьяченко, Дж. Заппена, В. Никифорова, Н. Николаева, Д. Никулина, Л. Стенбай, Г. Тиханова, А. Хаардта, Т. Щитцовой. Одиночество Бахтина, по-новому открывшееся в новом столетии, под стать его относительной уникальности: для филологов он как бы слишком «философ», а для философов слишком «филолог»; для западных гуманитариев он - чересчур «русский», а для российских - чересчур «европеец». Основная исследовательская трудность, по-видимому, в том, что Бахтин не вполне понятен ни на дореволюционном, ни на советском, ни на эмигрантском фоне; но и в контекст западной мысли его не удается удовлетворительно вписать или втиснуть (несмотря на продолжающиеся попытки). Не стоит забывать, что происшедшее в советском веке «рассечение» эпох, поколений, верований, научных и духовноидеологических традиций сопровождалось разрывом именно с теми направлениями в европейской философии конца Нового времени, которые Бахтин, по его же характерному выражению, «развивал дальше» и которые, со своей стороны, имел в виду Гадамер в упомянутом обращении «К русским читателям» после разрушения Берлинской стены (философия жизни, феноменология, экзистенциализм, новая герменевтика, философская социология, «диалогическое мышление», философская антропология и т. п.).
Под этим углом зрения, наша задача скорее в том, чтобы актуализовать бахтинский «диалогизм», как бы разомкнув это слово-понятие на обе стороны: в сторону, во-первых, научно-философской программы Бахтина и, во-вторых, в сторону того «перехода от мира науки к миру жизни», который в советских условиях не мог состояться своевременно и нормально. Нужно освободить диалогический принцип от наросших на нем ходячих представлений и слов (включая отчасти и термин «диалог»). В истории философии и науки суть дела не столько в словах или терминах самих по себе, даже не в «текстах», тоже самих по себе, но скорее в «затексте» обстоятельств, событий, идей, человеческих и философских судеб, само восприятие которых изменяется во времени, как бы уходит со сцены или, наоборот, снова и по-новому возвращается в становящуюся, изменяющуюся современность.
Классификация
Терминологические вариации бахтинской «идеи» в применении «к одному явлению» можно разделить на две группы. Первая группа - это такие обозначения, в которых слово-понятие «диалог» вообще отсутствует: я и другой, «причастная автономия» (или «автономная причастность»), «культура границ», «архитектоника бытия-события», «ответственность», «хор» и «хоровая поддержка», «я-переживание»/«мы-переживание», «внутренняя аудитория», «явление реагирования слова на слово», «речь в речи», «апперцептивный фон слова», «внутренняя политика стиля»/«внешняя политика стиля», «двутелое тело»/«гротескное тело», «отражение отражения», наконец «взаимная вненаходимость» я и другого в «едином и единственном событии бытия», а эпох и культур - в «большом времени». Вторую группу составляют вариации («моя любовь к вариациям») термина «диалог», которыми наш автор, начиная с конца 1920-х гг., замещал и обогащал ранние свои термины: «диалог, понятый широко», «диалогические отношения», «диалогичность», «диалогизация», «диалогизующий фон», «диалогизм», наконец, высшая форма диалогической коммуникации - «полифония» сознаний и голосов в единстве «радикально новой авторской позиции» в романах Достоевского. В отношении обеих этих групп пока еще отсутствует историкосистематический подход, способный реконструировать текстуально разорванное и вариативное, но все же «единство становящейся (развивающейся) идеи». В перспективе такой реконструкции нам здесь придется ограничиться подступом в направлении проблемы, которую, как кажется, стоит еще осознать.
Проблема
Поскольку термин «диалог» в новом столетии как бы вдруг утратил прежний потенциал в сознании современности, сохранив разве что формальное обозначение чего-то более или менее «известного», то можно попытаться лучше понять «идею» бахтинского авторства, отправляясь не от ее растиражированного «конца» 1960–1980-х гг., а от программного (собственно философского) «начала» и той социокультурной ситуации, которая сделала такое начало возможным и актуальным в совершенно определенный, «единственный» момент русской и западноевропейской истории.
Наиболее продуктивным в этом отношении представляется словосочетание «причастная автономия» (или «автономная причастность») [6, с. 282]. Этот термин, употребленный Бахтиным в большом незавершенном исследовании 1924 г. по вопросам методологии эстетики словесного творчества (опубл. в 1975), более точно передает «идею» бахтинской научно-философской программы в диалоге с культур-авангардом в мировоззрении и с формальным методом в литературоведении 1920-х гг. («материальная эстетика»). Поясним этот тезис на одном историко-философском примере.
Выдающийся немецкий философ и теолог итальянского происхождения Романо Гвардини (1885–1968), которого иногда относят к «диалогическим» мыслителям, с большой остротой и ясностью проанализировал бытийно-исторический кризис европейской современности в книге «Конец нового времени» (1950; рус. перевод – 1990). По мысли Гвардини, принципиальная установка Нового времени – стремление к автономии (независимости) во всех областях общественной жизни и творчества – привела к внутреннему исчерпанию и «концу» весь духовно-идеологический потенциал последних четырех веков европейской истории. Почему это произошло? Потому, отвечает Гвардини, что « мятежная вера в автономию сделала его (Новое время. – В.М.) слепым » (курсив мой. – В.М .) [16, с. 153]. По мысли Гвардини, три ведущих понятия Нового времени – «природа», «культура», «личность», – обретя как бы самоценную автономию в научном и общественном сознании XIX и XX вв., постепенно утратили связь с тем, чтó фактически обусловливает и питает всякую автономию в историческом мире жизни, а именно – конкретное отношение к миру жизни и друг к другу. Культ природы, культ культуры и культ личности, в сущности, лишили эти духовные императивы их собственных условий возможности; в этом смысле Новое время, при всех своих великих достижениях, оказалось «слепым».
Ситуация, которую Гвардини описал после Второй мировой войны, Бахтин, судя по всему, осознал уже во время «столетнего десятилетия» 1914–1923 гг., сделав ее – одновременно, но независимо от западноевропейских современников – исходным пунктом своей критики «гносеологизма всей философской культуры 19-го и 20-го века» (как сказано в рукописи 1922/23 гг. [6, с. 160]) и, шире, «всей идеологической культуры нового времени» (как сказано в обоих изданиях монографии о Достоевском (1929, 1963). Полемика с русским формализмом в упомянутой работе 1924 г. была попыткой противопоставить «новой русской поэтике», претендовавшей на независимость от систематической философии (от «ихнего гейста », как выражались между собой «формалисты» в частной переписке), новый проект систематического мышления, сохраняющий актуальность традиции на новом основании ее; «классическая традиционная терминология, таким образом, в основе своей остается верной» [6, с. 290].
Во всех исследованиях Бахтина, начиная со статьи-манифеста «Искусство и ответственность» (1919) и программы онтологии «участного мышления» (1921/1922), вплоть до философии «диалога» в литературно-теоретических, лингвистических, историкокультурных, философско-антропологических работах второй половины 1920-х – первой половины 1970-х гг., принцип причастной автономии продуман и выражен как настоящая альтернатива «мятежной вере в автономию», или, как сказано в книге о Достоевском, – «вере в самодостаточность одного сознания», вере, сложившейся на почве рационалистического утопизма и «монологизма» во всех сферах духовно-идеологического творчества Нового времени [10, с. 93].
Парадокс собственно в том, что «идея» бахтинского авторства, оказавшаяся как бы несвоевременной для своего времени, становится по-новому значимой после конца Нового времени.
Индивидуальное и социальное
Диалогический принцип – таков наш следующий тезис – с самого начала (т. е. еще до появления в текстах Бахтина термина «диалог») предстает как социально-онтологическая зависимость (индивида, сознания, эпохи, области культурного творчества) от того, чему такое-то явление внутренне «причастно», и что является условием возможности его относительной автономии. В этом смысле Бахтин, разрабатывая свою философию языка, мог написать уже в конце 1920-х годов: «Индивидуальный речевой акт (в точном смысле слова “индивидуальный”) – contradiction in adjecto» [4, с. 433], а в заметках 1961 г., варьируя свою основополагающую «идею», он еще радикальнее подчеркнет «внутреннюю социальность» личности, открытую в литературе Достоевским, который, в этом отношении, «противостоит всей декадентской и идеалистической (индивидуалистической) культуре, культуре принципиального и безысходного одиночества» [9, с. 344].
Подсоветский язык, на котором наш автор вынужден был изъясняться большую часть своей жизни (варьируя идею причастной автономии в зависимости от того, что он называл «внесловесным контекстом» высказывания или поступка), даже сегодня (и, пожалуй, сегодня больше, чем когда-либо прежде) затрудняет понимание «единства становящейся (развивающейся) идеи» бахтинского авторства. В общественном и отчасти в научногуманитарном сознании, как можно заметить, по-прежнему дает о себе знать предрассудок, в соответствие с которым «индивидуальное» и «социальное» – два как бы автономных начала, противостоящих друг другу в актуальном опыте так, как «внутреннее» противостоит «внешнему». Взаимопроникновение этих «начал» – едва ли не решающая проблема в философии ХХ в.; проблема эта упирается в следующую эпистемологическую трудность: русский мыслитель, показывая зависимость всякой автономии от того, что больше ее самой, утвердил, тем не менее, в качестве «развивающейся идеи» представление об относительной автономии и свободе как принципиальное и незаместимое в истории культуры.
В этом отношении Бахтин, похоже, и радикальнее, и оригинальнее тех своих западноевропейских современников, которые решали сходную проблему отношения «социального» и «персонального», оставаясь в пределах в основном только философии. «Становящуюся (развивающуюся) идею» нашего автора можно теперь формулировать так: любая «автономия» (мышления, личности, сознания, искусства, науки, культуры, исторической эпохи и т. д. и т. п.) находится внутри чего-то бóльшего , чем сама эта автономия, чему она «причастна», но так, что такая зависимость не отрицает и не унижает индивидуальную творческую инициативу – как это, в известной мере, происходило и происходит под влиянием таких понятий, как «идеология», «детерминация», «бессознательное», «классовое сознание», неоструктуралистская altérité и т. п. Скорее наоборот: то, на что ответственно опирается наше я , поступая, высказываясь, творя, – внутренне убедительное слово , [7, с. 95–96], – причастно чему-то более убедительному для меня самого, чем я «сам». Именно в этом смысле, как мы помним, индивидуальный речевой акт (или поступок) не только и не просто индивидуален, причем в позитивном смысле. Как это возможно?
Другость
Уже ранний (программный) Бахтин начала 1920-х годов использует термин другость , характеризуя, казалось бы, самую свободную, индивидуально-монологическую форму словесно-художественного высказывания – лирическую поэзию. Вопреки представлениям Нового времени (в особенности XIX в.), лирика интуируется и инициируется не автономно собою (не «романтически»), но интериоризованным «хором», «хоровой поддержкой»,
«хоровой ценностной оплотненностью души – «другостью» [6, с. 232, 231]. Соответственно, концепт «внутренне убедительного слова», развитый в бахтинской работе «Слово в романе» (1934/35), явным образом, только вариация , т. е. углубленный перевод «другости» на литературно-филологический язык изначального коммуникативно-диалогического взаимоотношения «индивидуального» и «социального». В так называемых «спорных тестах» Бахтина, опубликованных под именами друзей во второй половине 1920-х гг., «другость» и «хоровая поддержка» становятся «идеологической средой сознания», «социальностью», «внутренней аудиторией» всякого я, как, например, в случае сжатой полемики с натуралистическим монологизмом Льва Толстого в «Марксизме и философии языка» (1929): «Слова Толстого о том, что существует мышление для себя и мышление для публики сопоставляют лишь две концепции публики. Это толстовское “для себя” на самом деле означает только другую, ему свойственную социальную концепцию слушателя» [4, с. 424].
Представление о том, что «я один» в своем самосознании, поступке, высказывании, в своем «я мыслю» – это иллюзия, но не просто иллюзия. В этом решающем пункте все наиболее близкие русскому мыслителю философы-современники (не только «диалогисты») в принципе разделяют установку, выраженную в названии статьи немецко-американского христианского мыслителя Ойгена Розенштока-Хюсси (1888–1973) – «Прощание с Декартом» (1936) [22]. «Прощание» здесь означает дистанцирование от специфически нововременного представления об изолированном, самодовлеющем, как бы автономном субъекте познания, укорененном не в общественно-историческом мире жизни, не в «бытии-здесь» ( Dasein, по терминологии Хайдеггера), а в автономном, идеальном мире «чистого» мышления, установленного на естественнонаучное познание и сознание.
Отношение
Ранний Бахтин редко пользуется словом «другость»; но он с самого начала вводит в свои построения принцип отношения , то есть конкретной взаимосвязи я и другого во всяком «событии бытия». Но ведь принцип отношения – диалогический принцип – только вариация идеи «автономной причастности – или причастной автономии» [6, с. 282]. В трактате «Автор и герой в эстетической деятельности» (1922/23) это видно, в частности, при характеристике причастности индивида «категории утвержденного бытия другости» («ряд поступков начинается не из меня… В вопросе: кто я, звучит вопрос: кто мои родители, какого я рода»)». В рукописи трактата появляется в этом месте характерная приписка: «Не моя национальность, а я национальности» [6, с. 238]. Иначе говоря, не моя национальность принадлежит мне, но скорее я принадлежу своей национальности в бытийно-историческом отношении, в своей «другости».
В курсе лекций по проблемам философии в кружке Бахтина в Ленинграде (1924) вариация этой мысли передается в неокантианской терминологии как «плоть трансгредиентных моментов» (сознания), которые, вопреки современному «нигилизму», «растворены в единстве субъекта быть не могут» [6, с. 331]. Вот, вероятно, почему роль «экзистенциальной» традиции в мышлении Бахтина не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать: она у него, можно сказать, встроена в систематическое единство бытийноисторической «архитектоники», как это характерно для некоторых современников (Ф. Розенцвейг, отчасти М. Хайдеггер). В той же лекции в своем кружке идея историчности сознания переносится в сферу собственно мышления: «В каждой мысли есть момент проблемы и момент тезиса; в проблеме, мысль выходит сама за себя [6, с. 332].
В вышеупомянутой полемике с «материальной эстетикой» революционных лет (переворачивающей, но не преодолевающей основания идеализма и утопизма Нового времени), задача формулируется так : «Нужно перестать быть только самим собою, чтобы войти в историю (курсив мой. – В.М .) [6, с. 280]. Здесь это значит: футуристический разрыв с традицией, постулируемый «формальным методом» в гуманитарном мышлении, остается в границах отрицаемого, т. е. оборачивается изнанкой, которая «всегда хуже лица» [4, с. 285].
Эти и другие соображения молодого Бахтина выражают, в различных контекстах и вариациях, в сущности, одну и ту же «идею»: поступок, высказывание, сознание, культура, та или иная эпоха в своей относительно оправданной автономии, тем не менее, причастны тому, внутри чего они пребывают и самоопределяются в своей не риторической, не «монологический», но скорее гротескной идентичности.
Понятие «гротескного реализма», как известно, обосновано нашим автором в книге о Рабле в контексте исторической поэтики и эстетики [8, с. 41 и следующие]; здесь это понятие характеризует особый тип «двутелого тела», «гротескного тела» в истории европейской литературы и искусства. Этот принцип во втором издании книги о Достоевском (1963) принял жанровую форму взаимоотношения между сознаниями «героев-идеологов» в романах русского писателя. Между тем, исток идеи «полифонии голосов» находим уже в программном тексте «К философии поступка» (1921/22), именно – в феноменологическом описании сознания, или я , как причастно автономного другому в трех своих исхождениях за себя: «я-для-себя», «другой-для-меня», «я-для другого» [6, c. 49]. Последующее развитие бахтинской философии, таким образом, совершается на уже разработанном в программный период социально-онтологическом основании и должно мыслиться и пониматься, в первую очередь, в отношении к этому основанию, а уже во вторую и третью очередь - в отношении того, с кем из старших и младших современников Бахтина перспективно сравнивать.
Диалог
Термин «диалог» впервые вводится Бахтиным в книге о философии языка (1929), написанной от лица как бы марксиста и в развитие его фундаментальной онтологии не в привычном и узком, а в «широком» значении слова: « Диалог , в узком смысле слова, является, конечно, одной из форм, правда – важнейшей, речевого взаимодействия. Но можно понимать диалог широко , понимая под ним не только непосредственное громкое речевое общение людей лицом к лицу , а всякое речевое общение, какого бы типа оно ни было. Книга, т. е. печатное речевое выступление, является элементом речевого общения» (курсив мой. – В.М .) [4, с. 429].
Слово-понятие общение обесценилось сегодня еще больше, чем термин диалог. Бахтин здесь имеет в виду диалог, понятый «широко» (т. е. не только «лицом к лицу» и не только во внешнем композиционном выражении). Перед нами вариация так называемого диалогического принципа, а именно отношения как такового, не чисто идеального и не только материального, не вещного, но коммуникативного. Не случайно почти полвека спустя Бахтин в своих рабочих заметках сошлется на второй том «Философии» К. Ясперса (1932), посвященный феномену и проблематике «коммуникации» [10, с. 404].
Итак, во всяком взаимодействии-общении, как и во всяком «событии бытия», любое индивидуальное притязание на значимость бытийно опосредовано и мотивировано другостью , «хоровой поддержкой»; эти программные термины Бахтина, позднее заменяются у него, повторимся, как бы общепонятным (и тем более малопонятным) термином «социальный». Но и в этой смене терминов сохраняется идея «причастной автономии», ставшая теперь идеей «диалога»: моя автономия, моя свобода, моя экзистенциальная «самость» возможны и актуальны постольку, поскольку я причастен чему-то большему, чем я «сам». Но это опять-таки – только одна сторона дела.
И я есмь
С другой стороны, важнейший аспект становящейся (развивающейся) «идеи» Бахтина, как мы уже говорили, заключается в том, чтобы показать, каким образом человеческое сознание, личность «участны» и «ответственны» внутри своей же «другости», с которой личность не сливается ; конкретный субъект остается относительно автономным (свободным) в самой своей зависимости, или причастности, тому, что, казалось бы, превышает идеальносмысловой горизонт и возможности индивида. Поэтому, наряду с упоминавшейся «другостью» и понятием другого , Бахтин с самого начала утверждает принцип « и я есмь» [6, с. 14, 38] – словосочетание, в котором едва ли не центральное место принадлежит союзу и , связывающему так называемое личное начало со всем тем, что не есть только я сам в событии бытия.
В этом, как мне представляется, – сущностное отличие бахтинской другости от altérité так называемого «мышления 68-го года» во Франции с его стремлением овеществить и «стереть» категорию персональности и авторства. Исторически и психологически эта тенденция вполне понятна: состояние «отчаяния», при котором романтикоиндивидуалистическое сознание в конце Нового времени отрицает само себя, самоубийственно растворяясь в «односторонней причастности» («как если бы меня не было»); таков уже «пафос» философии Ницше, тенденция, которую молодой Бахтин назвал в своей философской программе «абсурдом современного дионисийства» [6, с. 47].
В программном тексте «К философии поступка» (1921/22) читаем: «Пусть я насквозь вижу данного человека, знаю и себя, но я должен овладеть правдой нашего взаимоотношения , правдой связующего нас единого и единственного события, в котором мы участники» (курсив мой. – В.М.) [6, с. 20]. В этом контексте понятно, каким образом и почему отправным пунктом бахтинской концепции творчества Достоевского оказывается тезис Вяч. Иванова «ты еси», оставшийся в ивановской концепции (1911) скорее тезисом, чем методической проблемой [см.: 18].
Решающее изменение
Наша постановка вопроса, однако, располагается не в литературно-эстетической, а в «онтологически-событийной» (по терминологии молодого Бахтина) плоскости. Мыслители «нового мышления» 1910–1920-х гг., независимо друг от друга, практически одновременно создали в то время философские проекты, поражающие различиями между ними почти так же, как и сходствами. Гадамер в поздней статье подчеркивал, что в 1920-е гг. целый ряд мыслителей, теологов, ученых «объединяло убеждение в том, что путь истины – это диалог» [15, с. 87]. Скупые указания Бахтина, увы, дают историку мышления не так много; приходится опираться на свидетельства его европейских современников. Руководствоваться при этом целесообразно следующим методическим соображением: русский автор не понятен вне того поворота, или перехода, в философии конца Нового времени (ХХ в.), о котором у нас здесь все время идет речь; но, с другой стороны, опыт современников, которых обычно сравнивают с Бахтиным, не дает подлинного представления о бахтинском авторстве в его становлении (развитии). Более адекватным и перспективным представляется понятие события (по-бахтински: «бытие-событие», «событие бытия» и т. п.). Событие (по-немецки Geschehen , или Ereignis ) не столько субъективно, сколько интер субъективно, оно собственно и отражает коммуникативно-диалогическую действительность со-бытия.
Интерес к понятию и категории «события» в последние десятилетия – симптом, свидетельствующий о возобновившихся попытках преодолеть так называемую субъект-объктную парадигму в теории познания (см. в этой связи: [11; 23; 25; 26]). Здесь мы снова прибегнем к историко-философскому примеру в популярном жанре case study.
В поздней статье «К истории диалогического принципа» (1954) немецко-еврейский религиозный философ Мартин Бубер (1879–1965) прокомментировал перелом в своем мышлении и у своих современников, происшедший в «час Везувия с его опытом Первой мировой войны» и возникшей тогда потребностью «воздать должное существующему экзистенциально (dem Existieren) – потребностью, захватившей также и систематическую философию» [12, с. 509].
Бубер рассказывает здесь, что еще до публикации своей самой известной книги «Я и Ты» (1923) он прочитал сочинение австрийского католика Фердинанда Эбнера (1882–1931) «Слово и духовные реальности» (1921), поразившую его сходством с его собственной концепцией диалога. «Его книга, – читаем в цитируемой статье Бубера, – показала мне – как никакая другая, прочитанная мною впоследствии (причем местами близость мыслей была какой-то даже жутковатой), что в такое время, как наше, люди разного склада и традиций оказались в поисках общего потрясенного достояния » [12, с. 513].
«Близость мыслей», поначалу смутившая Бубера, объяснялась, как он осознал позднее, общностью европейского мира жизни, потрясенного в исторический «час Везувия»; отражением и преломлением этой конкретно-исторической ситуации оказался поворот к новой, «экзистенциальной» онтологии. Отсюда, среди прочего, удивительный феномен, появление на философском горизонте текстов С. Кьеркегора, которого начали переводить (на немецкий) еще перед Первой мировой войной. В 1920-е гг. термин «экзистенция» стал почти синонимом «нового мышления», neue Denken , в Германии. Бахтин, который, как известно, юношей прочитал в Одессе Кьеркегора [5, с. 41–43], обошелся в своей философской программе без термина «экзистенция», хорошо известного ему по сочинениям позднего Шеллинга. Русский мыслитель, как и некоторые его европейские современники (К. Ясперс и Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси и М. Хайдеггер, М. Бубер и Г. Марсель, Ф. Эбнер и Р. Гвардини, многие другие), в своей философской программе исходил из назревшей в то время общей потребности – выйти за пределы и объективизма, и субъективизма Нового времени. Относительно новым в «новом мышлении» была попытка ввести в научно-систематическое познание реальную, «участную» человеческую личность, понятую экзистенциально, но не автономно . Дело было, конечно, не в термине самом по себе, а в трансформации философской традиции от Античности до Нового времени включительно. Хайдеггер писал Ясперсу 27 июня 1922 г.: «Требуется критика всей прежней онтологии, самых ее корней в греческой философии, особенно Аристотеля, чья онтология (хотя уже само это понятие не годится) у Канта и Гегеля жива никак не меньше, чем у какого-нибудь средневекового схоласта» [см.: 17, с. 73].
Для нас здесь важно следующее: хайдеггеровский радикализм, при всем его индивидуальном и национальном своеобразии, выразил некоторую общую тенденцию – «воздать должное существующему экзистенциально» (Бубер). У всех вышеупомянутых европейских мыслителей новым было не «новое», а, напротив, возвращение к первоистоку европейской научной традиции, к понятию «первой философии», правда, на совершенно новом – бытийно-историческом – основании.
Бубер с отчетливостью первооткрывателя выразил этот новый, как тогда говорили, «коперниканский переворот» в философии в одном из афоризмов «Я и Ты»: «В начале есть отношение (курсив мой. – В.М.) [13, с. 25]. Дело шло о «революционной науке», но не столько в философии так называемых опытных науках (как у Т. Куна в его знаменитой книге 1962 г.), сколько в науках общественно-исторического опыта мира жизни и, прежде всего, – в философии.
У самого Бубера трансформация философии во время и после Первой мировой войны была связана с переосмыслением его же прежней (довоенной) установки – противопоставления «Я-Ты» – «Я-Оно»; само это противопоставление осталось, даже усилилось, но теперь «основанием служит уже не сфера субъективности (Sphäre der Subjektivität), а сфера между существами (Sphäre zwischen den Wesen)». «Но ведь именно в этом, – комментирует Бубер, – и состояло решающее изменение , происшедшее в годы Первой мировой войны с целым рядом мыслителей. Изменение это по своему смыслу и сферам своего проявления было самым разнообразным; но фундаментальная общность (Gemeinsamkeit) человеческой ситуации, из которой произошло это вобравшее в себя все и вся изменение, не подлежит никакому сомнению» [13, с. 513].
«Фундаментальная общность» возникла, конечно, не потому, что мыслители-современники «читали» и «влияли» друг на друг; она мотивировалась событийно . Только в событийном контексте «решающего изменения» можно разглядеть и осмыслить – таков наш следующий тезис – как разительные сходства, так и не менее разительные отличия становящейся «идеи» Бахтина от, казалось бы, сходных проектов его старших и младших современников. Вообще, не сами по себе сопоставления русского мыслителя с кем бы то ни было приближают нас к ответу на вопрос «Откуда взялся Бахтин?», но скорее конкретноисторическая категория «Между» является историко-систематическим условием возможности всех возможных сопоставлений.
Онтология Между
Проиллюстрируем этот тезис еще одним историко-систематическим примером. Через сорок лет после поколения Бубера и Бахтина ученица Хайдеггера и Ясперса Ханна Арендт (1906–1975) писала в своей книге «Люди в темные времена» (1968): «…мир и населяющие его люди – не одно и то же. Мир расположен между людьми, и это “между” – в гораздо большей мере, чем люди и даже человек как таковой, – сегодня предмет самой сильной тревоги и самого очевидного кризиса почти во всех странах планеты… Разладился и никаким диалогом и никаким самостоятельным мышлением не мог быть налажен сам мир – то есть то, что возникает между людьми и где все, что люди несут в себе от рождения, становится зримо и слышно» [3, с. 12; 19].
Для Арендт «мир», т. е. экзистенциально-онтологическое пространство взаимоотношения между людьми (сфера «общения»), относится в особенности к тому, что она называет «публичной сферой», хотя эта ученица Хайдеггера сама же констатирует в предисловии к процитированной книге философскую односторонность и противоречивость хайдеггеровского афоризма: «Свет публичности все помрачает» [3, с. 9]. Главное в приведенном высказывании Арендт – констатация того, что ни риторика «диалога», ни усилия «самостоятельного мышления» сами по себе не гарантируют того, к чему диалог стремится в сфере «между». Бахтин с самого начала проблематизирует так называемую «онтологию Между» (Ontologie des Zwischen): в его программных текстах эта сфера («мир») есть условие возможности диалогических отношений вообще, независимо от того, осознаются ли эти условия публично. В книге «Формальный метод в литературоведении» (1928) онтологически-событийный принцип «Между» переносится в плоскость творческого мышления как такового: « Мы охотнее всего представляем себе идеологическое творчество как какое-то внутреннее дело понимания, постижения, проникновения и не замечаем, что на самом деле оно все сплошь развернуто вовне - для глаза, для уха, для рук, что оно не внутри нас, а между нами (курсив мой. - В.М .) [4, с. 190]. Это - радикальный поворот от индивидуализма и монологизма Нового времени, но в то же время это вариация ранней философской программы с ее идеей «овнешнения» (а тем самым индивидуальной «ответственности») участников некоторого общего события. О тношения-между - диалогический принцип причастной автономии -отчетливо заявляет о себе уже в Невельском манифесте двадцатичетырехлетнего Бахтина «Искусство и ответственность» (1919) [6, с. 5–6], и это не случайно: отношение между искусством и жизнью, традиционно существенное для русского культурного сознания, формулируется здесь совершенно необычно – не традиционно и не анти-традиционно, но с сохранением «классической традиционной терминологии».
Первая философия
Понятие «Между» необходимо, но недостаточно для обоснования нашего главного тезиса, в соответствии с которым идея «причастной автономии» в мышлении Бахтина причастно-автономна радикальному и магистральному сюжету западноевропейской философии ХХ в., который Гадамер, как мы помним, определил как «переход от мира науки к миру жизни». Представляется, что русский мыслитель осуществил этот «переход» самобытно, но понять и оценить эту самобытность можно только в контексте происшедшей на исходе
Нового времени «трансформации философии» [2]. Философия диалога на Западе в значительной мере инициировала эту трансформацию, но при этом она сама была причастна более общему событию философских «поворотов» 1920-х гг. и, в первую очередь – повороту к «первой философии» (онтологии) нового типа. Программный текст Бахтина «К философии поступка» (1921/22) собственно и посвящен новой постановке вопроса о “prima philosophia” [6, с. 12], «учению не о едином культурном творчестве, но о едином и единственном бытии-событии» [6, с. 22]. У всех мыслителей экзистенциально-онтологического поворота в «столетнее десятилетие» речь идет не столько о «культуре», сколько о «бытии», понятом не столько в политэкономических терминах (как в историческом материализме) и не в культурологических терминах (как в неокантианстве), а на более глубоком, до теоретическом уровне, введенном в научные дискуссии ХХ в., с одной стороны – «философией жизни» (Дильтей, Ницше, Бергсон, Зиммель и др.), с другой стороны – феноменологией Э. Гуcсерля и его школой. Бахтин в позднем письме к В.В. Кожинову от 2 июля 1962 г. писал, что «определяющее влияние» на него оказал Гуссерль¸ а из его учеников – Макс Шелер с его «персонализмом» [см.: 21, с. 549]. Определить так называемые влияния в случае Бахтина бывает трудно еще и потому, что наш автор, как правило, более или менее полемичен в отношении как раз тех философов и ученых, которые ему ближе других, тогда как у философских и научных оппонентов, наоборот, он подвергает критике не слабые, а сильные стороны, составляющие ту или иную реальную проблему, что в свое время подметил С.С. Аверинцев [1, с. 94].
Диалогизующий фон
Поворот к бытию как событию в западноевропейской философии проанализирован в обстоятельном труде выдающегося немецкого философа Микаэля Тойниссена (1932–2015) «Другой. Исследования по социальной онтологии современности» (1965; в США вышел в 1984 г. сокращенный перевод). «Другой, – писал Тойниссен во введении, – уже не только предмет какой-либо отдельной дисциплины, это теперь, в значительной степени, тема Первой Философии, ее «трансцендентальная праформа» [27, p. 1]. По мысли Тойниссена, «современная» версия «первой философии» сложилась в совершенно определенное время, а именно между 1917 и 1923 гг., и определила две основные линии последующего влияния и развития философии – линию «трансцендентальную» (Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер) и линию «диалогическую» (М. Бубер, Р. Гвардини, Г. Марсель, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, М. Шелер, Ф. Эбнер и многие другие). Первую философию нового типа в обеих ее разновидностях Тойниссен обозначает термином «социальная онтология» (Socialontologie), в отличие от более специализированной «социальной философии», а равно и от социологии. «Социальная онтология», как prima philosophia , определяется двумя принципиальными категориями: «я» и «другой» (точнее – отношением между ними). Если в социальной онтологии трансценденталистского типа Другой (der Andere) – это «другое я », то в диалогической философии Другой – это «Ты» и партнер в диалоге. При этом, конечно, «социальная онтология» в принципе не автономна, не изолирована от предшествующей философии: она радикализует, в частности, «постидеалистический» поворот в философии, начатый, как известно, поздним Шеллингом (против Гегеля и всей предшествовавшей теоретической философии) и продолженный Кьеркегором. С другой стороны, уместно добавить: нынешняя prima philosophia развивает «критику исторического разума» В. Дильтея, который трансформировал (задолго до М. Фуко и иначе, чем он) Кантову идею трансцендентализма. На этом историко-систематическом фоне, наверно, можно лучше разглядеть и понять Бахтина как философа, в его отличии (персональном и национальном) от упомянутых выше европейских предшественников и современников, вне которых, повторимся, русский автор почти «не виден» и еще менее понятен в своей уникальности.
-
1. Аверинцев С. Личность и талант ученого // М.М. Бахтин: Антология критики. М.: РОССПЭН,
2010. С. 93–101.
-
2. Апель К.-О. Трансформация философии. М.: Логос, 2001. 344 с.
-
3. Арендт Х. Люди в темные времена. М.: Московская школа политических исследований, 2003.
-
4. Бахтин (под маской) . М.: Лабиринт. 2000. 640 с.
-
5. Бахтин М.М. Беседы с В.Д. Дувакиным. М.: Согласие, 2002. 400 с.
-
6. Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 2003. 955с.
-
7. Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 3. М.: Языки славянской культуры, 2012. 800с.
-
8. Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 4(2): М.: Языки славянских культур, 2010. 752 с.
-
9. Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. 733 с
-
10. Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 6. М.: Языки славянской культуры, 2002. 799с.
-
11. Бибихин В.В. Слово и событие. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2010. 403 с.
-
12. Бубер М. К истории диалогического принципа // Антология еврейской философии Нового и
Новейшего времени (источники и комментарии) / ред., сост. И. Дворкин. М. – Иерусалим: Библиотека М. Гринберга, 2022. С. 507–521.
-
-
13. Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. М. Республика, 1995. С. 16–83.
-
14. Гадамер Г.-Г. К русским читателям // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. C. 6–7.
-
15. Гадамер Г.-Г. Неспособность к разговору // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. С. 82–92.
-
16. Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 127–163.
-
17. Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс. Переписка 1920–1963 / пер. с нем. И. Михайлова. М.: Ad
Marginem, 2001. 416 с.
-
18. Махлин В.Л. «Ты еси»: Достоевский между Вяч. Ивановым и М.М. Бахтиным // Вяч. Иванов: PRO ET CONTRA. Антология в 2-х тт. Т. 2. СПб.: РХГА, 2016. С. 50–76, 764–770.
-
19. Махлин В.Л. Причастная автономия. К вопросу о «диалогизме» М.М. Бахтина // Вопросы философии. 2022. № 11. С. 12–23.
-
20. Михайлов А.В. Терминологические исследования А.Ф. Лосева и историзация нашего знания // Михайлов А.В. Избранное: Историческая поэтика и герменевтика. СПб.: Изд-во СПб. ун-та. 2006. С. 459–477.
-
21. Паньков Н.А Вопросы биографии и научного творчества М.М. Бахтина. М.: МГУ, 2009. 720 с.
-
22. Розеншток-Хюсси О. Прощание с Декартом // Вопросы философии. 1997. № 8. С. 139–147.
-
23. Событие и событийность: cб. ст. / под ред. В. Марковича и. В. Шмида. М.: Изд-во Кулагиной – Intrada, 2010. 296 с.
-
24. Соколова Е.В. «Диалог невозможен…»: Коммуникативная проблематика в современной литературе Германии : (Б. Шлинк, М. Байер, К. Хакер, В. Генацино, К. Крахт): Аналитический обзор. М.: РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. литературоведения. М., 2008. 128 с.
-
25. Фактичность и событие мысли / под ред. Т. Щитцовой и В. Фурса. Вильнюс: ЕГУ, 2009. 280 с.
-
26. Щитцова Т.В. Событие в философии Бахтина. Минск: И.П. Логвинов, 2002. 300 с.
-
27. Theunissen M. Der Andere: studien zur Sozialontologie der Gegenwart. Berlin: De Gruyter, 1965. 538 s.
312 с.
«Dialogism» by M.M. Bakhtin as a historical and philosophical problem*
Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences.
Moscow, Russian Federation
*The research was supported by RSF (project No. 22-28-00262)
Annotation. This article is an attempt to solve three interrelated tasks. Firstly, to show up the circumstances and reasons why the concept and notion of dialogue and dialogism, in Bakhtin and elsewhere, have lost their initial meaning and actuality after the end of the New Times, i. e. in the 21st century.
Secondly, this very situation in the socio-cultural and scientific (scholarly) spheres seems to give us an opportunity to pose anew the old question of the so-called Bakhtin studies, namely: “Where did Bakhtin come from?” Thirdly, the recent move in the Bakhtin studies in the direction of the philosophical origins of his thinking allows us, it seems, to approach Bakhtin’s early texts (between 1919 and 1924) not only as a project in itself, but as a dynamic strategic idea of his work or authority. Moreover, this starting point, seems to give an access to the so-called neue Denken (“new thinking”) in the work of Bakhtin’s Western contemporaries (primarily and mostly in Germany). For, with his early transformation of the Western traditional philosophy of the New Times, with his programmatic concepts of “participative thinking” and “participative autonomy”, Bakhtin, in fact, participated (quite nationally and individually) in the similar transformation of traditional philosophy into a creation of the new paradigm of the “first philosophy”.