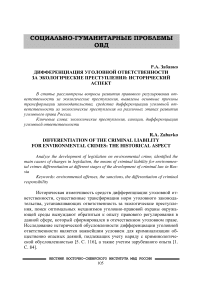Дифференциация уголовной ответственности за экологические преступления: исторический аспект
Автор: Забавко Р.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Социально-гуманитарные проблемы деятельности ОВД
Статья в выпуске: 1 (76), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены вопросы развития правового регулирования ответственности за экологические преступления, выявлены основные причины трансформации законодательства, средства дифференциации уголовной ответственности за экологические преступления на различных этапах развития уголовного права России.
Экологические преступления, санкции, дифференциация уголовной ответственности
Короткий адрес: https://sciup.org/14335738
IDR: 14335738
Текст научной статьи Дифференциация уголовной ответственности за экологические преступления: исторический аспект
Историческая изменчивость средств дифференциации уголовной ответственности, существенные трансформации норм уголовного законодательства, устанавливающих ответственность за экологические преступления, поиск оптимальных механизмов уголовно-правовой охраны окружающей среды вынуждают обратиться к опыту правового регулирования в данной сфере, который сформировался в отечественном уголовном праве. Исследование исторической обусловленности дифференциации уголовной ответственности является важнейшим условием для криминализации общественно опасных деяний, подлежащих учету наряду с криминологической обусловленностью [5. С. 116], а также учетом зарубежного опыта [1. С. 84].
Первые нормы, устанавливающие ответственность за совершение экологических правонарушений, появились в русском уголовном праве более десяти веков назад. Изначально эти нормы были призваны систематизировать отношения человека и природы, они заимствованы из первобытных обычаев и языческих культов. Человек, не имевший технологий сколько-нибудь существенного воздействия на природу, был полностью зависим от ее проявлений. Первоначальные нормы – табу – были обусловлены накапливавшимся опытом и сугубо экологического значения не имели. Как правило, они устанавливали запреты на охоту на определённых зверей, в определенных местах и т.д.
Ввиду отсутствия опасных для окружающей среды технологий в правовой системе Древнерусского государства на первоначальном этапе его существования отсутствовали правовые нормы, сколько-нибудь существенно защищавшие природу от преступных посягательств ввиду отсутствия потребности в этом. Наоборот, общественно опасными были такие деяния, которые делали человека беззащитными перед стихией.
Дальнейшая дифференциация уголовной ответственности за экологические преступления была связана с развитием русского общества, его стратификацией на классы, выделением правящего сословия – феодалов. Большинство природных ресурсов, прежде всего, земельные участ- ки, охотничьи и рыболовные угодья, признавались собственностью высших сословий. Ввиду этого возникла потребность в защите их владельческих прав. В связи с этим появились нормы, устанавливающие ответственность за посягательства на природные ресурсы. Так, ст. 69 Пространной Русской правды устанавливала наказание, равное наказанию за убийство холопа за «покражу бобра» посредством его добычи. Между тем системная связь общественной опасности преступления и строгости наказания за его совершение на данном историческом этапе отсутствовала [2. С. 32–33].
Одним из средств дифференциации уголовной ответственности при этом являлся субъект преступления – при невозможности установления личности виновного штраф в 12 гривен выплачивала вся община [9. С. 107].
Как хищение расценивалось присвоение дикой пчелиной борти. Как и за ее уничтожение за данное деяние устанавливался штраф в 3 гривны [9. С. 109]. При этом в качестве средства дифференциации указывался предмет преступления – от его размера зависел размер штрафа.
Зависимость объема уголовной ответственности и даже ее наличие от экономической ценности предмета экологического преступления была очень явной. Так, в условиях достаточности корабельной древесины при одновременной потребности в строительстве торго- вого флота обусловливали отсутствие уголовной ответственности за рубку лесных насаждений в окрестностях Новгорода времени князя Ярослава, один из указов которого гласил: «А приедет гость на Неву и понадобится ему дерево или мачтовый лес, рубить их ему по обеим берегам реки, где захочет» [9. С. 245]. Полагаем, что такие правовые механизмы свидетельствуют о существовании неких прообразов малозначительности как аспекта дифференциации уголовной ответственности за экологические преступления.
Приверженность защите владельческих прав была подтверждена и в Судебнике 1497 г., который устанавливал строгую ответственность за нарушение прав на земельные участки. В то же время фактором, влияющим на дифференциацию уголовной ответственности становятся публичные интересы. Так, появились «засеки» – участки леса, на которых существенно ограничивалась хозяйственная деятельности из-за интересов обороны государства. Такие участки охранялись, а за рубку лесных насаждений на их территории вводилась строгая ответственность. Тем самым на дифференциацию уголовной ответственности за экологическое преступление стало влиять место его совершения.
Усиление роли православной церкви в XV–XIV вв. повлекло за собой признание государством их особого правового статуса, в том числе и в сфере природопользования. Так, Стоглав 1551 г. устанавливал повышенную уголовную ответственность за посягательство на право собственности на природные ресурсы, принадлежавшие церквям и монастырям.
Появились первые «заповедные» грамоты, запрещавшие охоту, рыболовство, собирательство, хозяйственную деятельность на определенных территориях, принадлежавших лицам, обладавших этими грамотами. При этом термин «запо-ведность» происходит от слова «ведать», т. е. обладать исключительным правом собственности. Такой грамотой была, в частности, выданная архимандриту Чудова монастыря Иваном IV, которая строжайше запрещала охоту на монастырских землях [4. С. 117].
Развитие внешней торговли, преобладание в экспорте пушнины привели к тому, что запасы некоторых видов ценных пушных зверей существенно сократились. Государство было вынужденно вводить запрет и ограничения на добычу животных, выдавать специальные грамоты отдельным лицам, разрешающие им добывать определенные виды в определенном количестве. Нарушение таких грамот, а также добыча зверя без них приравнивалась к краже государственного имущества. Потребность в пушнине стала причиной издания важных нормативных правовых актов, таких как Царский указ 1681 г., гласивший: «чтобы в ясачных местах лесов не секли и не жгли и оттого бы зверь вдаль не бежал и... ясачному сбору порухи и недоброму не было». Тем самым появился новый фактор, обусловивший дифференциацию за экологические преступления, – принадлежность предмета преступления государству [4. С. 117–118].
Соборное уложение 1649 г. закрепило право на собственность птиц, рыбы, зверей, растений и других природных ресурсов. Уголовно наказуемыми стали их самовольная добыча, которая приравнивалась к краже чужого имущества. Законодательство периода абсолютизма продолжило дальнейшее закрепление этих положений.
В это же время формируются первые нормы, охраняющие публично-правовые интересы. Так в ст. 23 Соборного уложения 1649 г. указывалось: «А для дров и для всякого лесу, что надобно будет на становое строение, ездити служилым людем в помесные и в вотчинные леса по-волно, а явки с них вотчинником и помещиком, чьи те леса не имати. А в засечныя и в ыныя заповедныя леса им ни почто не ездити, а возити служилым людем дрова и всякой лес на становое строение про себя, а не на продажу».
Регламентировалась экологически значимая деятельность в районах рек: «прудов новых и плотин, и мельниц не делати, чтобы по тем рекам новыми прудами и плотинами судового ходу не переняти» [10. С. 101]. Обозначился новый фактор дифференциации уголовной ответственности за совершение экологических преступлений – дополнительный объект уголовно-правовой охраны в виде публично-правового интереса.
Для социально-политического устройства, а также экономики страны всегда большое значение имели система распределения земель и реализация права собственности на земельные участки. Это было связано с сословным делением общества на класс дворян, бывшим опорой для государства и класс крестьян, которые преимущественно сами были собственностью дворян. Кроме того, на дальних окраинах существовали отдельные военизированные сословия – казаки, которые также сильно зависели от земельных наделов. Государство в лице царя являлось единственным собственником, распределявшим земельные участки среди дворян. Крестьяне, в свою очередь, земельными участками не владели, а только пользовались ими по усмотрению дворян. В таких условиях было организовано четкое разграничение права владения, пользования и распоряжения землями. Гражданско-правовой оборот земельных участников сильно ограничивался, о чем свидетельствует, в частности, указ «О единонаследии» 1714 года [3. С. 91–94]. Уголовно-правовая охрана этих полномочий фактически не требовалась.
Однако на отдельных территориях, где проживали преимущественно свободные крестьяне, а также казаки – особое военизированное сословие, самостоятельно ведущее сельское хозяйство, земельные участки как объекты недвижимости являлись предметом многих гражданско-правовых договоров, и общественно опасные деяния против права собственности на земельные участки квалифицировались как хищение. Тем самым можно констатировать наличие дифференциации уголовной ответственности в зависимости от территории и категории природопользователей.
Лишь к середине XIX в. в отечественном праве, существенно систематизированном М.М. Сперанским и его последователями, появились первые правовые механизмы охраны публично-правовых норм. Так, запрещалось строить экологически опасные производства вблизи крупных городов, вдоль рек, появились нормативы качества вод, почв и т.д. Но и в это время большая часть экологических преступлений находилась в разделе экономических.
Существенные изменения в российском уголовном праве, а также в подходе к уголовноправовой охране природных ресурсов были связаны с революциями 1917 г. и последовавшими за ними реформами. Отмена частной собственности на землю и другие при- родные ресурсы исключила из уголовного законодательства потребность в уголовно-правовой охране права собственности на них.
Неправомерное изъятие природных ресурсов отнесли сначала к преступлениям против порядка управления, а затем к хозяйственным преступлениям. Особый правовой статус государственных природных ресурсов был окончательно закреплен.
К середине XX в. общемировые тенденции, связанные с повышенным вниманием к окружающей среде и формированием транснациональных стандартов природоохраны привели к тому, что появилась отдельная отрасль экологического права. Тем не менее, более справедливое название для нее даже в настоящее время – «природоресурсное право». Это отразилось и на уголовном законодательстве, в котором, несмотря на появление в 1996 г. главы 26 «Экологические преступления», сохранился хозяйственный подход к природоохране, и дифференциация уголовной ответственности по-прежнему зависит от вида и полномочий собственника на природные ресурсы. Это, в свою очередь, влечет правоприменительные проблемы, необоснованное применение административной ответственности за экологические правонарушения. Полагаем, правы те авторы, которые предлагают ввести категорию «уголовный проступок» и применять ее в отношении части деяний, не представляющих существенной общественной опасности [6. С. 32].
Сказанное позволяет сделать ряд выводов.
-
1. Дифференциация уголовной ответственности за экологические преступления в России исторически связана с вопросами права собственности на природные ресурсы. Долгое время эти ресурсы признавались обычным имуществом и их изъятие и обращение в свою пользу или в пользу других лиц приравнивалось к хищениям.
-
2. Санкции за экологические преступления традиционно были равными санкциям за хищения. Снижение строгости наказания за экологические преступления в сравнении с хищениями, произошедшее за последние десятилетия, связано с формальным изменением объекта уголовно-правовой охраны и изменением характера общественной опасности этих деяний. Это повлекло за собой изменение категории преступлений и, как следствие, упрощенный порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также широкое применение мер уголовноправового воздействия, не связанных с реальным лишением свободы.
-
3. На дифференциацию уголовной ответственности за экологические преступления традиционно влияет статус потерпевшего – владельца природных ресурсов. К настоящему времени сохранился
-
4. В условиях декларированных Конституцией равного доступа граждан и общества к природным ресурсам, а также формального равенства всех форм собственности, полагаем, что дифференциация уголовной ответственности по признаку, указанному в предыдущем абзаце, недопустима.
-
5. Исторически, а также социально обусловленной является уголовная ответственность за хищения природных ресурсов.
-
6. Указанные обстоятельства должны быть учтены при организации дифференциации уголовной ответственности за экологические преступления и возможном выделении категории «экологический уголовный проступок», о необходимости введения которого давно пишут ученые [7. С. 235; 8. С. 233].
только один собственник, посягательство на право собственности в отношении природных ресурсов которого наказывается строже, чем посягательства на право собственности иных субъектов – государство.
Список литературы Дифференциация уголовной ответственности за экологические преступления: исторический аспект
- Донец С.П. Некоторые вопросы сравнительного анализа института дифференциации уголовной ответственности в зарубежном и отечественном уголовном законодательстве//Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 4. С. 83-88.
- Вакарина Е.А., Городенцев Г.А. Дифференциация и индивидуализация наказания в истории российского уголовного права//Вестник Краснодарского университета МВД России. 2011. № 1. С. 32-42.
- О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах//Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. СПб.: Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. Т. V. 1713-1719. Ст. 2789.
- Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. 632 с.
- Рогова Е.В. Криминологическая обусловленность дифференциации уголовной ответственности//Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов 20-й междунар. науч.-практ. конф.: В 2 т. Иркутск, 2015. С. 116-121.
- Рогова Е.В. Дифференциация уголовной ответственности//Российский следователь. 2014. № 21. С. 30-32.
- Рогова Е.В. Уголовный проступок и категоризация преступлений в контексте реформирования уголовного закона//Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее (Кутафинские чтения): сб. докладов VII Междунар. науч.-практ. конф. М., 2015. С. 232-235.
- Рогова Е.В. Уголовный проступок: суждения экспертов//Библиотека криминалиста. 2013. № 2 (7). С. 225-233.
- Российское законодательство X-XX веков: тексты и коммент.: В 9 т./под общ. ред. О.И. Чистякова. Т. 1: Законодательство Древней Руси/под ред. В.Л. Янина. М.: Юрид. лит., 1984. 430 с.
- Российское законодательство X-XX веков: тексты и коммент.: В 9 т./под общ. ред. О.И. Чистякова. Т. 3: Акты Земских соборов/под ред. А.Г. Манькова. М.: Юрид. лит., 1985. 511 с.