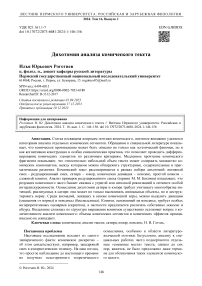Дихотомии анализа комического текста
Автор: Роготнев И.Ю.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам поэтики комического, основное внимание уделяется категориям анализа отдельных комических сегментов. Обращение к специальной литературе показывает, что комическое произведение может быть описано не только как эстетический феномен, но и как когнитивная конструкция и особая символическая практика, что позволяет проводить дифференцирование комических элементов по различным критериям. Медленное прочтение комического фрагмента показывает, что относительно небольшой объем текста может содержать множество комических компонентов, между которыми можно обнаружить структурные, содержательные и прагматические различия. Комический текст рассматривается в рамках набора дихотомий: активный смех - редуцированный смех, сатира - юмор, комическая девиация - нонсенс, простой комизм - сложный комизм. Анализ примеров редуцированного смеха (термин М. М. Бахтина) показывает, что редукция комического часто бывает связана с утратой или неполной реализацией в сегменте особой интердискурсивности. Осмысление дихотомии сатиры и юмора требует учитывать многообразие интенций, реализуемых в сатире: она может не только высмеивать аномальные объекты, но и деструктировать норму. Среди аномалий, лежащих в основе комической игры, можно выделить девиации (смещения от нормы) и нонсенсы (бессмыслицы). Комизм, основанный на нонсенсе, требует особых интерпретативных сценариев (скриптов), в частности предлагается различать собственно нонсенс и абсурд. Выделение сложных по структуре выражения комизмов существенно осложняет вопрос о количественном анализе комического: объемы комических сегментов и комических эффектов принципиально не совпадают.
Комическое, анализ текста, сатира, юмор, нонсенс, н. в. гоголь
Короткий адрес: https://sciup.org/147243393
IDR: 147243393 | УДК: 821.161.1-7 | DOI: 10.17072/2073-6681-2024-1-146-156
Текст научной статьи Дихотомии анализа комического текста
Постановка проблемы
Настоящее исследование исходит из одного эмпирического факта: комическое дискретно – об этом свидетельствует, например, закадровый смех в юмористических телешоу. На наш взгляд, это простое наблюдение до настоящего времени не получило всестороннего теоретического осмысления, особенно в области литературоведческой поэтики. Безусловно, анализу в специальных работах часто подвергаются отдельные «смешные места» текста, однако до сих пор, кажется, не было предложено даже термина для обозначения таких элементов комического целого.
В российском литературоведении продуктивно исследуются художественные стратегии создания комического целого, комическое рассматривается в его миромоделирующих и миросозерцательных аспектах. Среди работ последнего десятилетия в этой связи назовем монографии Л. Ю. Фуксона [Фуксон 2016] и Г. А. Жиличевой [Жиличева 2021], развивающие идеи В. И. Тюпы о комическом, сатире, иронии как модусах художественности (способах художественного мышления) [Тюпа 2008]. Выявление миросозерцательных оснований комического произведения – лейтмотив советской науки о комическом. Возможно, наиболее недооцененным исследователем этого вопроса остается Л. Е. Пинский, задумавшийся о теологическом/метафизическом содержании литературного юмора, см.: [Козинцев 2019]. Настоящее исследование лишь по касательной затрагивает вопросы поэтики и герменевтики комического целого и сосредоточивается на анализе комического как части.
Цель настоящей статьи – предложить подход к исследованию комических единиц, или комиз-мов (во множественном числе – именно так мы предлагаем обозначать «места», в которых текст предлагает смеяться), на материале творчества Н. В. Гоголя, пользующегося славой самого смешного русского комического писателя.
По нашему убеждению, всякий «смешной» момент можно локализовать в конкретном фрагменте речевой цепочки – как то самое «место, в котором можно смеяться». Соответствующий семиотический сегмент и порожденный им комический эффект мы и будем выделять как отдельный комизм. Комизмы собственно лингвистического уровня (комика в языке, тексте, дискурсе) достаточно подробно исследовались с различных позиций [Raskin 1985; Санников 2002; Логический… 2007 и др.]. Нам хотелось бы предложить категории анализа, применимые в ракурсе теоретической поэтики и, шире, теории искусства – при анализе в том числе комических эффектов во внутреннем мире художественного произведения.
Обзор литературы
Основу комического принято видеть в несоответствии изображаемого объекта некоторой ментальной норме – глубоко воспринятой субъектом, включающей в себя правила языка и логики, принципы этикета, эстетические ожидания, культурные коды и т. п. В основе всякого комизма – аномалия, прочитанная на фоне Нормы; написание с прописной буквы призвано в данном случае подчеркнуть, что речь идет о фундамен- тальном аспекте субъективной жизни – о нормативном измерении нашей когнитивной деятельности и символической вселенной. В предложенном понимании основ смехового поведения мы следуем за целым рядом авторитетных специалистов; в частности, сходные идеи развиваются в работах: [Дземидок 1974; Пропп 1976: 43–48; Козинцев 2007а].
Изучение комического как эстетической категории, основанной на созерцании субъектом «отрицательных сторон» действительности, глубоко укоренилось в отечественной гуманитарии. Остановимся на некоторых концепциях, которые описывают комический феномен не со стороны созерцания, но скорее как когнитивную структуру и символическую практику.
Значительные результаты были достигнуты в области лингвистического анализа юмора, в частности в теории семантических скриптов, сформулированной В. Раскином и представленной, в частности, в работах С. Аттардо. Согласно этой концепции, всякий юмористический текст (точнее, микротекст, текст шутки) совместим, «полностью или частично», в своей семантической структуре с двумя скриптами (фреймами, сценариями), причем эти скрипты противопоставлены друг другу [Raskin 1985: 99]. Скриптом С. Ат-тардо называет интернализированный субъектом комплекс предзнаний о некотором жизненном «единстве», будь то «объект (реальный или воображаемый), событие, действие, качество и т. д.» [Attardo 2001: 2]. Скрипт содержит информацию о том, как структурирован феномен, из каких частей он состоит и проч. Исследователи стремятся описывать скрипты юмористического текста как тесно связанные с лексическими значениями (лексическая семантика как бы «запускает» скрипт). Очевидно, что многие юмористические тексты могут быть интерпретированы в этой модели, однако, как показывает Г. А. Козинцев, не каждый юмористический текст реализует оппозицию и смену скриптов, как и не всякий текст, построенный по этой модели, является юмором [Козинцев 2013: 144–145].
Определенным образом с семантической теорией юмора перекликается дискурсивная теория сатиры, предложенная П. Симпсоном. Всякий сатирический дискурс имеет дело с предполагаемым или реальным дискурсивным событием (текстом, жанром или регистром дискурса), который выступает как первичный момент, прайм [Simpson 2003: 8]. Ключевым же моментом сатирического текста является диалектика как «антитезис» прайма; прайм и диалектика образуют оппозицию, каждый член которой апеллирует к различным ресурсам знания [Simpson 2003: 9], за счет чего возникают парадоксальные семантические и прагматические эффекты.
Исследование П. Симпсона в целом определяется представлением о сатире как дискурсе, основанном на особых конвенциях, к которому не применимы базовые правила коммуникации (максимы искренности, уместности, правдивости). Согласно концепции П. Симпсона, сатира всегда работает с другим дискурсом; ее основной символической техникой мы, таким образом, должны считать иронию. Сегодня под иронией принято понимать не просто тип переноса значения, но особую речевую/дискурсивную технику, чему посвящено несколько основательных исследований, например [Colebrook 2004; Шатуновский 2007; Ермакова 2011 и др.]. Ирония ин-тердискурсивна в том смысле, что она отсылает к другому (иногда исключительно умозрительному) дискурсивному событию, чтобы проблемати-зировать почерпнутые из него значения, инвертировать и травестировать их, придавая слову кардинально иную, вплоть до противоположной, семантическую направленность.
Анализ конфликта дискурсивных моментов ( прайм – диалектика ) представляется, по меньшей мере, не менее продуктивным, чем изучение оппозиции скриптов. Уже М. М. Бахтин рассматривал комический стиль как принципиально «двуголосое», разноречивое слово. В речевой стихии народной площади происходило, согласно Бахтину, «передразнивание всех “языков” и диалектов, <...> велась живая игра “языками” поэтов, ученых, попов, рыцарей и др., где все “языки” были масками и не было подлинного и бесспорного языкового лица» [Бахтин 2012: 26].
А. Г. Козинцев поддерживает бахтинский подход и считает, что специфическая «двуголо-сость» составляет основу всякого юмора, для которого необходима фигура «сказчика» – радикальная пародийная маска, карикатура на речь и мышление [Козинцев 2013]. В то же время исследователь настаивает на строгом различии между юмором и иронией: «юмор не изменяет прямой смысл, а уничтожает его, не предлагая взамен ничего» [Козинцев 2007б: 240], в то время как ирония отрицает прямой смысл высказывания и утверждает противоположный. Необходимым для юмористического текста оказывается элемент пародии, причем фундаментальной по своему предмету – это пародия на язык и культуру в целом. Юмористический «сказ» может заключать в себе взгляд «сверху вниз» (с позиции культуры на докультурное наследие человека) либо «снизу вверх» (с позиции докультурного человеческого естества на человека культурного) [Козинцев 2013: 157 – 158].
Таким образом, в комическом обнаруживается не оппозиция семантических скриптов, но сшибка дискурсивных событий, голосов, социальных кругозоров, а то и двуголосие природнокультурной сущности человека. Возможно, имеет смысл рассматривать чистый юмор («уничтожение» смысла) и иронию как два полюса комического в интердискурсивном измерении, а между ними расположить феномены собственно пародийные и пародические. Ирония «передразнивает» конкретное слово, реплику, оценку – произнесенные или потенциальные. Пародия комически отсылает не к высказыванию, но к целому стилю, жанру, манере – дискурсивной регулярности. Юмор в «чистом виде», как понимает его А. Г. Козинцев, «передразнивает» дискурс как таковой. В этом случае «несмешная» ирония (например: Хорошая погодка! – о проливном дожде) утрачивает «двуголосие» и может рассматриваться разве что как форма «редуцированного смеха»: семантический конфликт здесь обнаруживается, но дискурсивной «диалектики» в этом случае нет. Можно предположить, что комическое оставляет (причем не всегда) след на уровне фрейма/скрипта, но не на этом уровне определяется.
Проанализировав множество разнородных произведений, созданных в английский «золотой век сатиры», Э. Маршалл приходит к выводу о фундаментальной неполноте расхожих концепций и дефиниций сатирического, основанных на анализе «канонических» текстов и не учитывающих подлинного многообразия произведений, которые рассматривались в качестве сатирических авторами и их читателями-современниками. Э. Маршалл предлагает выработать в отношении сатиры гибкую дескриптивную стратегию. Во всех форматах сатирического текста обнаруживается «критика», направленная на самые разнообразные социальные объекты: от конкретных людей до моделей поведения. Критика вовсе не обязательно носит характер «атаки» на предмет, но обязательно сопряжена с некоторым эксцентричным субъективным отношением к предмету: искажением его, насмешкой над ним [Marshall 2013: 3]. Предмет своего исследования Э. Маршалл обозначает как «практику сатиры», т. е. как употребления и манифестации сатирического в конкретных социокультурных контекстах [ibid.: 5]. Анализ такой практики должен учитывать различия в реализации трех моментов сатирического: 1) мотива/намерения (из личной неприязни сатирика, его желания защитить свои ценности, про- теста против несправедливости и др.), 2) суждения (резкое отрицание, требование к изменению, сочетание хвалы и хулы и др.), 3) интенсивности (от озлобленного до «чисто комического» отношения к предмету) [Marshall 2013: 31–33].
Мы также исходим из потребности различать функции и модусы комического, однако сосредоточиваемся на формальных и содержательных различиях не только между текстами или развернутыми текстовыми фрагментами, но и между отдельными смешными местами (комизмами). Смеховая игра принципиально контингентна: она оперирует множеством комических эффектов, создавая сложно организованную партию, в которой можно проследить авторскую стратегию.
Имеет смысл уточнить, что микроанализ комического понимается нами как очень специальная процедура – как фиксация комизмов и их описание в ограниченном наборе категорий. Попытку «микрофилологического анализа» сатирического текста предпринимает О. Л. Довгий. В работах этого исследователя комическое, однако, специально не рассматривается, а микроанализ реализуется как наблюдения над структурными связями, возникающими между языковыми единицами: фонемами, морфемами, словами, семами и др. – в корпусе стихотворных сатир А. Д. Кантемира [Довгий 2018].
Микроанализ
Для демонстрации принципа микроанализа как анализа комизмов возьмем небольшой фрагмент из гоголевского «Театрального разъезда».
Господин Б. <…> Разве не попадается гусь и между статскими советниками?
Господин П. Ну уж, брат, это слишком. Как же может быть гусь действительный статский советник? Ну, пусть еще титулярный… Ну, ты уж слишком. <…>
Господин П. (продолжая). И потом опять, что за чепуху он наговорил здесь? Говорит, действительный статский советник может быть гусь. Ну, еще пусть титулярный, это можно допустить… (Гоголь: V, 150, 152).
Рассмотрим комическое в реплике Господина П. С его точки зрения, действительный статский советник не может быть гусь: персонаж смешивает прямое и переносное значения слова. Можно предположить, что протестует он против гуся потому, что сам является действительным статским советником либо страдает гипертрофированным чинопочитанием. Это усиливает комизм, добавляет к нему сатирическую краску. Комизм, будучи аномалией (в данном случае он основан на нарушении принципа толкования ме- тафоры), целит в социальный объект – самолю-бие/чинопочитание. Господин П. при этом готов допустить, что титулярный советник может быть гусем. В этом суждении Господин П. противоречит собственной трактовке гуся в прямом значении. В своем непонимании персонаж, между прочим, обновляет стертое значение топоса, общего места (инвективная метафора гусь подчеркивает некоторые аномальные свойства у человека). Возмутившись этой метафорой, Господин П. невольно признается в том, что применил метафору к себе или к дорогому для него объекту. Итак, смешна (точнее мы предпочли бы здесь сказать забавна) топическая (узуальная) метафора, оживающая в недоумении Господина П.; смешон, далее, способ критики метафоры; смешно, наконец, несоответствие этому способу следующего суждения (вновь обличающее узость мышления персонажа). Смешно и то, что Господин П. без толка повторяет сказанное. Есть и еще один, более утонченный, источник смешного. Разговор господ, как можно предположить, касается пьесы «Ревизор», в 5 действии которого читаем:
Коробкин (читая [письмо Хлестакова к Тря-пичкину]) . «Надзиратель за богоугодным заведением Земляника – совершенная свинья в ермолке».
Артемий Филиппович (к зрителям) . И не остроумно! свинья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке? (Гоголь: IV, 92).
Дополнительный комизм рассуждениям Господина П. придает то, что он воспроизводит структуру нелепого защитного аргумента Земляники – возвращаясь с премьеры «Ревизора»!
Если попытаться посчитать отдельные комические сегменты, то мы сможем выделить 3 комизма: 1) Как же может быть гусь действительный статский советник? 2) Ну, пусть еще титулярный… 3) Говорит, действительный статский советник может быть гусь. Ну, еще пусть титулярный, это можно допустить… (третий комизм состоит в навязчивом повторении уже произнесенной глупости). Исходную инвективную метафору (гусь) оставим пока в стороне: она, с нашей точки зрения, входит в мощный слой забавного – так сказать, редуцированной комики. Рассмотрим прочие комизмы, заключенные не в грамматике, семантике, стилистике или фонике, но в отношениях и свойствах персонажей, а потому целиком принадлежащие производному слою произведения: 4) обида Господина П. на совершенно нейтральное соображение (Разве не попадается гусь и между статскими советниками?), 5) повторение Господином П. формулы нелепого умозаключения Земляники, которое Господин П. мог только что слышать со сцены. Комизмы (4) и (5), во-первых, носят комплексный характер: эти аномалии выражены в сегментах, которые одновременно реализуют другие аномалии. Во-вторых, эти сложные комизмы имеют непосредственное отношение к сфере ключевых авторских идей: в «Театральном разъезде» Гоголь пытается осмыслить причины непонятости его комедии, а также дать ключи к верному её толкованию. Зритель «применяет» сатирические образы к чинам, сословиям, власти и государству в целом, но не к собственной личности. Господин П. обиделся за себя как за носителя служебного ранга, но не увидел в себе исследуемых писателем пороков, т. е. не воспользовался сатирой по назначению. Между тем «замысел Гоголя» как комедиографа заключался в том, чтобы «вовлечь зрителя в спектакль, дать почувствовать, что страсти и пороки чиновников, выведенных на сцене, есть в душе каждого из нас» [Воропаев 2019: 125].
Рассмотрим типы обыгрываемых аномалий. Все комизмы, кроме (2), имеют в основе девиацию (отклонение от Нормы, смещение). Комизм (2) представляет собой нонсенс, алогизм: статским советником гусь быть не может, а титулярным – может.
Все 5 выделенных нами комизмов носят насмешливый/обличительный характер. Они обличают пошлость, самодовольство и глупость Господина П. Однако лишь комизмы (4) и (5) прямо отсылают к авторской сверхзадаче; она, таким образом, скрыта в глубине комического. Это ставит перед нами вопрос об иллокутивном ранжировании комизмов, неоднородном распределении иллокутивной силы по их совокупности. В целом же мы должны признать, что, взятое как множество комизмов одного текста, комическое не подчиняется какой-то одной структурной или смысловой тенденции.
Итак, микроанализ позволяет поставить ряд вопросов о специфике комизма, которые мы обозначим как ряд дихотомий: 1) забавное – смешное, 2) сатира – юмор, 3) девиация – нонсенс, 4) простой комизм – сложный комизм. По поводу каждой из этих дихотомий сделаем ряд замечаний.
Забавное – смешное
В первом приближении забавное располагается в пограничье между нормальным и аномальным. При его описании считаем возможным воспользоваться термином М. М. Бахтина – редуцированный смех: «Редуцированный смех лишен непосредственного выражения, так сказать, “не звучит”, но его след остается в структуре образа и слова, угадывается в ней. Перефразируя Гоголя, можно говорить про “невидимый миру смех”» [Бахтин 2002: 129].
Редукция смеха может быть связана как со слабой проявленностью аномалии, так и с недостаточной строгостью Нормы. Так, целый ряд речевых аномалий воспринимается как смешное носителями речевого стандарта и слабо ощущается иными носителями языка. Об Осипе из «Ревизора» сказано: не любит много говорить и молча плут (Гоголь: IV, 10). Здесь, вообще говоря, мы имеем дело с так называемой авторской речью, а такой автор, как Гоголь, обращается с литературной нормой достаточно вольно. Поэтому восприятие этого места как аномалии возможно при двух условиях: понимания читателем грамматической несообразности в словосочетании молча + плут и восприятия данного нарушения как ощутимой аномалии на фоне в целом очень своеобразной гоголевской речи.
Приведем пример речевого нарушения, который кажется нам скорее смешным, чем забавным, потому как аномалию ощущают едва ли не все носители языка: Вот я тебя сведу в полицию… Вот ты увидишь! А невесте скажи, что она подлец ! (Гоголь: V, 44) .
Граница между забавным и смешным, безусловно, субъективна. Анализируя пограничные случаи, мы глубже входим в диалектику Нормы и аномалии. Посмотрим, однако, на проблему редуцированного смеха с позиций дискурсивной диалектики, с учетом реализации комической интердискурсивности. Мы предположили, что «несмешная ирония» связана с утратой ироническим словом «двуголосия» при сохранении семантического механизма переноса значения. Сходный феномен отмечает Н. Б. Мечковская, размышляя о различиях между смешным в языке и речи: «Узуальное смешное – те легкие, но постоянные (в синхронии уже не обусловленные ситуацией или контекстом) оценочные оттенки в содержании слов и фразем, о которых словари сигнализируют пометами шутливое и ироническое. Эти оттенки не обладают цельностью и заметностью речевой шутки; они мельче и скромнее» [Мечковская 2007: 142–143]. В терминах настоящего исследования «узуальное смешное» следует признать разновидностью забавного, т. е. формой редуцированного смеха. Редукция здесь происходит, как и в случае с несмешной иронией, за счет утраты языковой единицей смеховой интонировки, принадлежности речевой маске комического сказчика. Мы не рассматриваем словосочетание молча плут как смешное, если считаем его монологичным, хоть и нарушающим литературный речевой стандарт, авторским словом. Если же мы воспринимаем его как игру с литературным языком, как переигрывание правил грамматики («общего языка» как предмета комической объективации, см.: [Бахтин 2012: 26– 27]) – мы относим этот пример к разряду смешного. Выражаясь в бахтинских терминах, в первом случае смех потенциально заключен «в структуре образа и слова», а во втором – «звучит».
Таким образом, слой комики, который мы назвали «забавным», содержит «монологизиро-ванные» (лишенные двойной огласовки) аномалии.
Сатира – юмор
В отечественной эстетической традиции принято различать в качестве основных типов комического сатиру и юмор. Так, Д. Д. Николаев утверждает: «...главным при разграничении сатирических и юмористических произведений является авторская установка: в первом случае – на обличение, во втором – прежде всего на достижение комического эффекта» [Николаев 1993: 17]. В свете этих соображений комику юмористическую мы также будем называть рекреационной, а сатирическую – насмешливой, обличительной.
В структуре крупных сатирических, т. е. обличительных (насмешливых), произведений, таких как «Ревизор», мы обнаружим немало чисто «юмористических», «добродушных» комизмов. Рассмотрим известный фрагмент, в котором городничий рассуждает о поведении педагогов местного училища:
Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо... не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак (делает гримасу), и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить… (Гоголь: IV, 15).
Выделим комизмы, носящие насмешливый характер: 1) неразличение городничим паронимов (вероятно, он путает коллегии с коллежами), 2) его гримасничанье, 3) нелепое умозаключение: «может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить» – всё это подчеркивает низкий уровень культуры чиновника. А вот описание преподавателя трудно прочитать как обличение – здесь гримасы преподавателя и его же- стикуляция, не без иронии названные поступки, натурально неразлучные с ученым званием, поданы вполне добродушно, в рекреационном ключе.
Сложнейшим вопросом остается описание большого пласта комических феноменов, которые несут идеологическую нагрузку, однако последняя выходит за рамки критики объекта, его высмеивания. Именно этот пласт комического исследовал М. М. Бахтин в своих работах о кар-навализованной литературе и менипповой сатире. Здесь мы ограничимся тезисом о соседстве в сатирической литературе комизмов насмешливых и комизмов, так сказать, деконструирующих. Если первые направлены на критику аномалии, то вторые – скорее атакуют Норму.
Основные комизмы гоголевских «Записок сумасшедшего» в целом связаны с аномальным состоянием героя, его бредом и галлюцинациями. Трудно предположить, что Н. В. Гоголь с помощью насмешки обличал безумие, психический недуг. По-видимому, здесь использован комизм, типологически близкий юродству; Ю. В. Манн обнаруживает тот же тип литературного смеха в «Шинели». Общность стратегии юродивого и автора «Шинели» заключается в том, что каждый из них провоцирует смех, обличающий скорее самого смеющегося, – смех, который этически может быть оценен как грех [Манн 1995]. Баш-мачкин и Поприщин смешны лишь для менталитета обывателя, который взывается к духовному просветлению и состраданию. Обличение аномальных объектов в этих текстах затрагивает лишь некоторый слой комизмов – в своем целом комика обсуждаемых повестей осуществляет философскую истину «Познай самого себя», т. е. в данном случае – свою Норму; «Записки сумасшедшего» и «Шинель» призывают нас осмыслить с этических позиций нормативные основания нашей ментальности. Эти случаи «сатиры» являются, по сути, текстами с деконструирующим типом комизма как идейно-стилевой доминантой.
Девиация – нонсенс
Возможность различать девиацию и нонсенс как типы комических аномалий связана с внутренней дифференцированностью самой Нормы, которая объединяет представления о том, что должно быть, и о том, что может быть. Хрестоматийный образ из «Ревизора» – унтер-офицерская вдова «сама себя высекла» – мы, при всей его экстравагантности, считаем комизмом-девиацией: рассматриваемый комизм лишь отклоняется от нормы здравого смысла (такого не должно быть), но не «ломает» символическую вселенную. Приведем другой пример: Фамилия чинов- ника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки (Гоголь: III, 142). Момент откровенного нонсенса видится нам в сегменте: и даже шурин. Во-первых, шурин, т. е. брат жены, вряд ли мог носить ту же фамилию. Во-вторых, у холостяка Башмачкина попросту не могло быть шурина. Этот комизм мы назвали бы нонсенсом (такого быть не может).
При анализе комизма-нонсенса следует иметь в виду, что комическое есть всегда контекстуа-лизация, «употребление» аномалии в системе определенной поэтики. До своего воплощения в художественном целом аномалия имеет некоторое множество потенций своей реализации. Речь идет о возможности рассматривать образцы бессмыслицы вне конкретного художественного контекста, как бы в качестве чернового материала; например, в записных книжках Чехова имеется запись о гостиничном счете, содержавшем графу «клопы 15 копеек» [Чуковский 1967: 164], – этот нонсенс не был воплощен как литературный комизм, но вполне мог им стать в каком-нибудь чеховском рассказе. Отчасти следуя делёзовской традиции [Deleuze 1969], исходную логическую аномалию (бессмыслицу, открытую к множественному означиванию) мы и называем нонсенсом . Рассмотрим механизм перехода нонсенса с уровня литературного материала на уровень поэтики (художественной формы).
Начнем с уже рассмотренного нами примера: Как же может быть гусь действительный статский советник? Ну, пусть еще титулярный… Алогизм, актуализированный в художественном целом, прочитывается нами в рамках скрипта (интерпретативного сценария): эта бессмыслица симптоматична . Нонсенс нейтрализуется, превращается в симптом глупости.
Литературный абсурд, напротив, сообщает нонсенсу как бы тавтологическое значение: эта бессмыслица (на уровне материала) бессмысленна (на уровне поэтики). Известно, однако, что исследователи литературы абсурда видят в ней скорее выражение предельных (экзистенциальных) смыслов, чем отсутствие смысла [Esslin 1980; Jaccard 1991]. Таким образом, категория абсурда отсылает к концепции выражения смысла через бессмыслицу.
Самым известным примером абсурда в русской сатирической прозе остается фантастическая посылка повести «Нос» (посылка фанта- стического – «допущение о “реальности” необычайных событий» [Ковтун 1999: 11]): часть тела неведомым образом отделяется от лица и превращается в самостоятельное лицо. С. Г. Бочаров видит в повести коллизию лица и маски, лика и личины, а также дает любопытное определение своей интерпретативной стратегии: «Для того, чтобы так прочитать его [“Нос”], одинаково важно не отрываться от текста повести и суметь от него оторваться…» [Бочаров 1985: 126]. Таким образом, к абсурду применяется парадоксальное чтение – двойное и разнонаправленное герменевтическое усилие. Реализация нонсенса (как материала) в поэтике абсурда требует от интерпретирующего субъекта не только констатации бессмысленности конкретного мотива, но и последующего или параллельного движения в новом герменевтическом круге, так что толкователь получает фигуру: эта бессмыслица бессмысленна, но где-то имеет смысл. Скрипт абсурда представляется наиболее сложным среди всех вариантов реализации нонсенса.
Различие между абсурдом и литературным нонсенсом (Эдвард Лир, Льюис Кэрролл) заключается, возможно, в том, что нонсенс, переходя из материала в поэтику, остается нонсенсом в литературной форме, его скрипт можно описать словами: эта бессмыслица бессмысленна, просто бессмысленна . Нонсенс в данном случае не прирастает смыслами, но обзаводится планом выражения. «…нонсенс предполагает отсутствие содержания, чистую форму» [Астафьева 2019: 111]. С нашей точки зрения, пример с «шурином» Башмачкина является именно чистым нонсенсом, а не абсурдом.
Таким образом, реализация нонсенса в произведении требует особой стратегии интерпретации. Чистый нонсенс задействует скрипт: эта бессмыслица бессмысленна . Нейтрализованный нонсенс чаще всего прочитывается в рамках сценария: эта бессмыслица симптоматична . Абсурд требует усложнения герменевтической стратегии: эта бессмыслица бессмысленна, и это что-то значит . Отметим здесь, что поэтика абсурда далеко не всегда комична и часто сопряжена с темами метафизического ужаса и трагизма человеческого бытия.
Простые и сложные комизмы
Выделяя комизмы сложного типа, мы исходим, прежде всего, из того факта, что один текстовый сегмент может создавать несколько комических аномалий. Образ вдовы, которая «сама себя высекла», аномален сам по себе, однако он еще и рисует положение чиновника, предлагаю- щего «ревизору» совершенно нелепое, крайне неубедительное оправдание. Первая аномалия этого комического комплекса обнаруживается как нелепое воображаемое обстоятельство, вторая – как часть нелепого речевого акта.
Некоторые комизмы образуют своеобразные композиции, сцепления аномалий: Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг… – статусу судьи, разумеется, не соответствует такой «объем» прочитанной литературы; … прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен (Гоголь: IV, 10) – вольнодумие возникает вследствие поверхностного чтения, т. е. является вздором, видом глупости. Здесь комизмы как бы нахлестывают друг на друга.
Можно было бы привести немало примеров комических комплексов и композиций из гоголевской прозы. Уместно высказать гипотезу о тяготении индивидуального гоголевского стиля к сложному комизму. Структура комизма у гоголевских предшественников (например, Д. И. Фонвизина) представляется более простой.
Заключение
Ввиду таких свойств комизма, как компози-тивность (сцепление комических сегментов) и комплексность (несколько комических эффектов в одном сегменте), затруднительно выявить и корректно подсчитать все комические единицы. Однако и простой подсчет комических сегментов сталкивается с проблемой – нечеткости границ между комикой редуцированной и активной. При этом мы видели, как свернутый в узуальной единице комизм может развернуться: «стертое» значение вовлекается в игру, активируется, «звучит». Эти замечания призваны объяснить наше тяготение к качественным оценкам и нашу нерешительность в деле количественного описания комического, несмотря на заявленную трактовку последнего как множества дискретных феноменов. Разработка методики количественного анализа комического остается перспективой нашего исследования.
Если исходить из того, что комические элементы наделены различной иллокутивной силой, т. е. в разной степени ориентированы к выражению авторской интенции, то допустимо предположить, что в так называемых «сатирических» произведениях наиболее «сильными» могут оказаться комизмы «юмористические». Более того, иллокутивная мощь высказывания может быть сконцентрирована вовсе не в комизмах, а в иных фигурах поэтики. Тогда из чего мы исходим, называя произведение сатирическим или юмори- стическим? Из показателей количественных или качественных?
Рассматривая комическую поэтику как множество комизмов, мы оказываемся перед проблемой описания и интерпретации контингентных феноменов. На наш взгляд, интерпретатору следует не столько искать обобщающие оценки произведения, сколько анализировать стратегию и тактику смеховой игры, различные «ходы», совершаемые автором в его комической тяжбе с языком и культурой.
Список литературы Дихотомии анализа комического текста
- Астафьева О. В. «Лауреат нонсенса» Э. Лир между литературой средневековья и новейшего времени // Неканоническая эстетика. Вып. V: Все нелепицы мира: Абсурд в литературе и искусстве: сб. ст. СПб.; Тверь: Изд-во Марины Батасо-вой, 2019. С.111-123.
- Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 6. «Проблемы поэтики Достоевского», 1963. Работы 1960-х - 1970-х гг. М.: Русские словари: Языки славянских культур, 2002. 800 с.
- Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 3. Теория романа (1930-1961 гг.). М.: Языки славянских культур, 2012. 880 с.
- Бочаров С. Г. Загадка «Носа» и тайна лица // Бочаров С. Г. О художественных мирах. М.: Сов. Россия, 1985. С. 124-160.
- Воропаев В. А. Нет другой двери...: О Гоголе и не только. М.: Белый город, 2019. 448 с.
- Дземидок Б. О комическом / пер. с пол. С. Святского. М.: Прогресс, 1974. 223 с.
- Довгий О. Л. Сатиры Кантемира как код русской поэзии. Опыт микрофилологического анализа. Тула: Аквариус, 2018. 443 с.
- Ермакова О. П. Ирония и ее роль в жизни языка. М.: Флинта, 2011. 204 с.
- Жиличева Г. А. Поэтика русского комического романа XX века: очерки. Новосибирск: Открытая кафедра, 2021. 222 с.
- Ковтун Е. Н. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа (На материале европейской литературы первой половины XX века). М.: Изд-во МГУ, 1999. 308 с.
- Козинцев А. Г. Леонид Пинский и философия комического / Пинский Л. Е. Почему Бог спит: Самиздатский трактат Л. Е. Пинского и его переписка с Г. М. Козинцевым. СПб.: Нестор-История, 2019. С. 83-96.
- Козинцев А. Г. Разнонаправленное двуголосое слово: эстетика и семиотика юмора // Антропологический форум. 2013. № 18. С. 143-162.
- Козинцев А. Г. Человек и смех. СПб. : Алетейя, 2007а. 236 с.
- Козинцев А. Г. Юмор: до и после иронии // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Индрик, 20076. С. 238-253.
- Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Индрик, 2007. 728 с.
- Манн Ю. В. Карнавал и его окрестности // Вопросы литературы. 1995. № 1. С. 154-182.
- Мечковская Н. Б. Феномен «смешного» в речи, его языковые первоэлементы и внеязыковые механизмы // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Индрик, 2007. С. 140-153.
- Николаев Д. Д. Творчество Н. А. Тэффи и А. Т. Аверченко. Две тенденции развития русской юмористики: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1993. 24 с.
- Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М. : Искусство, 1976. 186 с.
- Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2002. 552 с.
- Тюпа В. И. Модусы художественности // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной: Intrada, 2008. С. 127-128.
- Фуксон Л. Ю. Смех как способ истолкования. Кемерово: Кузбасвузиздат, 2016. 254 с.
- Чуковский К. И. О Чехове. М.: Худ. литература, 1967. 208 с.
- Шатуновский И. Б. Ирония и ее виды // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Индрик, 2007. С. 340-372.
- Attardo S. Humorous texts: A Semantic and Pragmatic Analysis. Berlin; New York, 2001. 238 p.
- Colebrook C. Irony. London; New York: Rout-ledge, 2004.191 p.
- Deleuze G. Logique du sens. Paris: Les éditions de Minuit, 1969. 392 p.
- Esslin M. The Theatre of the Absurd. London: Pelican, 1980. 480 p.
- Jaccard J.-Ph. Daniil Harms et la fin de l'avant-garde russe. Bern: Peter Lang, 1991. 611 p.
- Marshall A. The Practice of Satire in England, 1658-1770. Baltimore: John Hopkins University Press, 2013. 431 p.
- Raskin V. Semantic mechanisms of humor. Dordrecht: D. Reidel. 1985. 283 p.
- Simpson P. On the Discourse of Satire. Towards a stylistic model of satirical humour. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003.242 p.