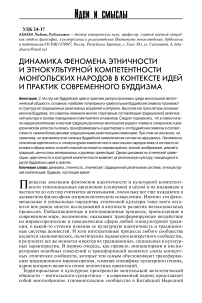Динамика феномена этничности и этнокультурной компетентности монгольских народов в контексте идей и практик современного буддизма
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 5, 2020 года.
Бесплатный доступ
С тех пор как буддийские идеи и практики распространились среди монгольской метаэтнической общности, основные, наиболее популярные и краеугольные буддийские символы проникают в структуру ее традиционных религиозных воззрений и ритуалов. Выступая как трансляторы основных канонов буддизма, эти символы изменили многие структурные составляющие традиционной религиозной культуры и основы повседневного менталитета кочевников. Следует подчеркнуть, что в самом начале каждая религиозная и местная традиция различных монгольских родов и племен в синхронном и диахроническом аспектах пыталась трансформировать и адаптировать эти буддийские символы в соответствии со своими более ранними традиционными религиозными символами. При этом ни синтаксис, ни семантика, ни прагматика этих сложных буддийских семиотических систем не нарушались. Несомненно, этническая идентичность и этнокультурная компетентность монгольских народов лежат в контексте их кочевого образа жизни со всей сложной системой их мировоззрения, знаний, воображения, умений и традиций, ценностных материальных и духовных ориентаций. Однако динамика их этнической ориентации, идентичности и культурной компетентности выявляет их религиозную культуру, находящуюся в русле буддийских идей и практик.
Динамика, этничность, этническая/ традиционная религиозная система, этнокультурная компетенция, буддизм, настоящее время
Короткий адрес: https://sciup.org/170171214
IDR: 170171214 | УДК: 24-17 | DOI: 10.31171/vlast.v28i5.7595
Текст научной статьи Динамика феномена этничности и этнокультурной компетентности монгольских народов в контексте идей и практик современного буддизма
П роцессы эволюции феноменов идентичности и культурной компетентности этносоциальных организмов (социумов) в целом и их индивидов в частности до сих пор считаются актуальными, поскольку все еще нуждаются в адекватном философско-антропологическом осмыслении. Именно эти феноменальные и уникальные парадигмы этнической культуры чаще всего остаются вне рамок многих исследований в контексте развития мегасоциальных процессов. Глобализационные и интеграционные процессы, происходящие в современном мире, несомненно, оказывают трансформирующее воздействие на мировоззренческие и поведенческие сферы любой этнокультурной традиции, в какой-то степени изменяя ее культурную идентичность и традиционные системы ценностей. И хотя интегративные процессы любого сообщества касаются экономических, политических параметров конкретного сообщества, в результате все же меняется и вектор их традиционных, социальных и культурных характеристик. В первую очередь, как правило, инициаторами и инспираторами подобных изменений и трансформаций являются элиты конкретных этнических сообществ, которые тем самым обусловливают трансформацию традиционного мировоззрения, изменяя специфику культурного генома, ядром которого является геном ценностных ориентаций.
Территориальное и культурное пространство монгольской метаэтнической общности – монгольского суперэтноса – в современный период представляет собой многообразное этномонгольское сообщество в Китайской Народной
Республике, собственно монгольское сообщество в Республике Монголия и две монгольские этнические общности в России. Генезис культурной идентичности монгольской метаэтнической общности – это Великая степь с ярко выраженной кочевой цивилизацией, мировоззрением и мировосприятием кочевников, выработавших специфическую форму этнической психологии, кочевой ментальности и традиционных ценностей. В качестве общего культурного наследия среди всех монгольских народов сохраняются основные элементы кочевой цивилизации: знаки, символы, язык, ценности, правила кочевого образа жизни, социальные нормы, социальные санкции, представления о мифологическом и реальном, поведенческие нормы, этикет, обычаи, традиции, ритуалы.
Культурная идентификация элиты в определенные исторические моменты трансформирует свою традиционную структуру в соответствии с существующей системой этнокультурного окружения, естественным и эволюционным образом сокращая и изменяя при этом прежние мотивации и ценности, обретая многие характеристики урбанизированного социума. Так, известный этносоциолог М.Н. Губогло пишет: «Постановка вопроса об идентичности, т.е. об обретении новых или переосмыслении прежних идентичностей в ходе трансформационных процессов, служит предтечей для другой, более важной проблемы – каким образом и в каких масштабах происходили изменения» [Губогло 2003: 69]. В рамках проекта «Социокультурный облик бурятской диаспоры в Китае» в 2007 г. аспирантом М.Н. Губогло и Т.Н. Абаевым была «предпринята попытка исследования монгольских этнических групп в г. Хулун-Буир Автономного района Внутренней Монголии КНР. Основная цель проекта заключалась в исследовании этносоциальной структуры монгольских этнических групп, населяющих этот регион, и в попытке проанализировать развитие их этнокультурных традиций, а также вывести их этносоциальный и этнокульурный потенциал, создавшийся в инокультурном и иноэтническом окружении и влиянии» [Абаев 2007: 127]. В результате полевых исследований Т.Н. Абаев приходит к выводу, что буряты Шэнэхэнского балгаса, дагуры Дагурского сомона аймака Баян-Тала (в основном Цицикар и Морин-Дава), баргуты-шинэ и хучин («старые» и «новые») Старобаргутского, Западного и Восточного хошунов с центром в г. Баян-Хурэ и другие монгольские этносы и группы этого региона «не утратили свою основную хозяйственно-культурную доминанту – скотоводство (причем они являются одним из основных поставщиков натуральных мясных продуктов в Китае), а значит, и их этнокультурный потенциал все еще достаточно высок, так как многие элементы традиционной культуры не подверглись ассимиляции» [Абаев 2007: 131]. Наши собственные полевые исследования в районе Внутренней Монголии КНР подтверждают эти данные. Единственное, что хотелось бы добавить и отметить в данном контексте, это то, что мировоззрение и мировосприятие элиты монгольских общностей Внутренней Монголии Китая (баргутов, хорчинов, джалайт и бурят в Хулунбуирском аймаке Внутренней Монголии Китая; хорчинов в Джеримском аймаке; харчинов, ара-харчинов, огнютов, хэшигтэнов, тумэтов, баринов в Жоудасском аймаке; узумчинов, хучинов, абага, абаганаров в Шилингольском аймаке; чахаров в Чахарском аймаке; уратов, дурбэн хухэтов, дархан-мянгатов в Уланцабском аймаке и ордосов в Ехэ-Чжоуском аймаке, а также упомянутых Т.Н. Абаевым дагуров, баргутов, хорчин, харчин, дунсянь, баоянь, бурят и многих других в смысле культурной идентичности как «не-ханьских» этносов Китая) хотя и последовательно продолжают гомогенизироваться с доминирующей китайской социальной и культурной идентичностью, но все же остаются в контексте буддийских практик в ее общемонгольском варианте.
При этом среди элиты бурятской диаспоры в мифологическом и реальном сознании представителей элитарного буддийского духовенства во Внутренней Монголии КНР фиксируется четкая тенденция возвращения на историческую родину – в современную Россию, несмотря на то что экономические условия проживания в Китае и в России, куда они, возможно, вернутся, однозначно несопоставимы. По этнографическим данным этнолога Д.Д. Нимаева, в некоторых провинциях КНР дисперсно проживают такие этнические монгольские группы, как горлосы – в Хэйлунцзяне, тумэты – в Ляонине, кукунорские монголы – в Цинхае и в провинциях Ганьсу и Юньнань. При этом ученый приводит новые количественные данные о численности населения Внутренней Монголии КНР – 22 млн чел., из них «не-ханьского» (не-китайского) происхождения – 4 млн, 3,3 млн из которых относятся к монгольской метаэтни-ческой общности. Общая численность монголов в Китае, добавляет автор, ссылаясь на И.А. Жоголева, согласно данным 4-й переписи населения 1992 г., – 4 802 407 чел. [Нимаев 2007: 17].
При этом каждая этническая культура воспринимала и анализировала этнокультурные реалии и феномены других культур с точки зрения своих исторически и генетически традиционно устоявшихся парадигм. Такой классический вектор направленности обычно традиционен и мало поддается большим изменениям. Фундаментальные ценностные структуры собственных этнокультурных традиций и связанные с этим собственная этническая сущность и проявленность, а также этническая, социальная и культурная идентичности всегда, как правило, выступают доминирующими и этнофиксирующими маркерами в оценке и анализе других культур. Так, например, элита китайской культуры, относящейся к древним и осевым культурным цивилизациям (как и римская, также именуемая «осевой» в культурной антропологии), с некоторым высокомерием относилась к культурным реалиям своих сопредельных территорий, населенных этносами-кочевниками со специфическими этнокультурными традициями, передвижными жилищами, своеобразной системой культуры питания, и не воспринимала феномен культурной идентичности монгольской метаэтнической общности, населяющей Великую степь, адекватно, относя их со своей «высокой колокольни» к «варварским». Относительно китайской этнокультурной традиции с точки зрения языка культуры в процессе эволюции общения возникло недопонимание некоторых объектов и субъектов монгольской этнокультурной традиции, т.к. исторически китайская традиционная культура – это земледельческий вид хозяйствования, с оседлой жизнедеятельностью и системой жизнеобеспечения, тогда как монгольская этнокультурная традиция – это кочевая цивилизация с достаточно подвижной, динамичной и мобильной системой передвижения и особой структурой жизнеобеспечения и жизнедеятельности. Здесь, естественно, фиксируются моменты непонимания и тенденции неприятия многих этнокультурных элементов, недоступных для адекватной интерпретации, т.к. в культуре земледельческих народов отсутствуют эквивалентные феномены, а значит и термины для обозначения того или иного культурного феномена кочевых культур [Абаева 2018: 68-71].
Совсем иная структура культурной идентичности среди элиты Монголии, где в результате длительных этнических и этносоциальных процессов с многочисленными количественно и доминирующими в этнокультурном отношении халха Великую степь населяли племенные объединения западных монголов – ойраты, дариганга, хотогойты, сартулы, узумчины, хорчины, чахары и др. В практически моноэтнической Монголии культурная компетентность элиты общества происходила в русле урбанизационных процессов. При этом культурная идентификация и самоидентификация представителей монголь- ской общности, например во Внутренней Монголии, происходила на уровне китайской оседлой культуры и культуры кочевников. Так, в Синьцзянском автономном районе КНР – китайская оседлая культура и культура как собственно монгольских кочевников, так и кочевая культура тюркских этносов; в Монголии – маньчжурская культура и монгольская кочевая культура, в основном в условиях моноэтнической структуры; в Бурятии и Калмыкии – славянские этнические сообщества и бурятский и калмыцкий этнический стереотип кочевой цивилизации. Традиционные ценности метаэтнической монгольской общности в виде поведенческих, мировоззренческих, мифологических и мифотворческих стереотипов подверглись меньшей степени трансформации, изменившись лишь с эволюцией политической и экономической структур каждого конкретного монгольского этноса. Аксиологическая структура кочевой культуры осталась практически на уровне традиционной, лишь в существующие этнокультурные и конфессиональные модели были внесены некоторые инновационные буддийские символы и практики. В современный период во всех монгольских сообществах всей монголосферы также почитаются ханы до и после Чингисхана. В культурном пространстве своего бытия монгольская метаэтническая общность, как правило, сакрализировала многие существовавшие вокруг ландшафтные и природные объекты – горы, озера, реки, деревья и т.д. К сакральным символам монгольские сообщества относили также и небесную сферу, почитая Солнце, Луну, звезды, созвездия, небесные светила, Полярную звезду (Алтан Гадас), Большую и Малую Медведицу (Долон Убэгэн), Млечный путь, Плеяды (Мичит), Венеру (Цолмон). В структуру астральных и сакрализованных мифов монгольских народов также было включено и Небо – как категория безначальная, и значит бесконечная, несотворенная, владеющая судьбами мира монгольского сообщества и его отдельных индивидов, повлекшая за собой возникновение тэнгрианского феномена.
С распространением буддизма во всей монголосфере религиозными символами стали Будда, Цзонхава, Далай-лама, Чжэбзун-Дамба хутухта, Белая и Зеленая Тара, а также многочисленный пантеон буддийских бодхисатв и защитников веры. Необходимо также отметить, что в некоторых локусах монгольского мира конфессиональная идентичность его представителей пролегает в рамках как шаманских и неошаманских традиций, так и в рамках буддийской религиозной культуры. Амбивалентная культурная идентичность наблюдается практически у всех представителей монгольской метаэтниче-ской общности не только в результате кросс-культурных взаимовлияний, но и в силу высокой степени их адаптационных этнокультурных возможностей, выработанных еще в период Монгольской империи. Как известно, амбивалентная идентичность в векторе развития этнокультурных характеристик является следствием продолжительных контактов с инокультурной средой. Элита монгольских этносов Китая одинаково хорошо адаптировала существующие в разные хронологические периоды китайские этнокультурные реалии, в т.ч. и язык, оставаясь все же в векторе общемонгольского принципа адаптации буддийских идей и практик.
Бикультуральными, а следовательно и билингвальными, вовлеченными в канву российских этнических, социальных и политических реалий являются также элиты калмыков и бурят в России. Примечательно, что, в отличие от монгольских этносов Китая, где на китайском языке фактически свободно говорит только элита, представители бурятского и калмыцкого этносов свободно говорят на русском языке, в какой-то степени демонстрируя этнокультурную индифферентность к родному языку. Культурная индифферентность бурят и калмыков свидетельствует о практически завершившемся процессе аккультурации этих этносов в поликультурном пространстве России. Длительный процесс взаимодействия с русской культурой и представителями староверческих (семейских) и казачьих этнокультурных реалий, пришедших в Восточную и Южную Сибирь вместе с их носителями, несомненно, обогатили культурную компетентность бурятского этноса, в какой-то мере спровоцировав высокий уровень этнокультурной адаптации, а также коллективную и индивидуальную толерантность.
Культурная идентичность и конфессиональная компетентность калмыцкого этноса в России достаточно многослойна и сложна. Исторически они являются выходцами из Западной Монголии, осевшими на современной территории проживания лишь в ХVII в. Элита калмыцкого сообщества не теряла связей со своими сородичами как в Западной Монголии, так и в Синьцзяньском автономном округе КНР, оставаясь при этом адептами учения традиции школы гелуг Далай лам XIII и XIV. Небезынтересно, что, будучи великолепными всадниками, они успешно адаптировались в период Российской империи, проходя военную службу в охране царской фамилии. Годы репрессий в СССР разбросали калмыцкий этнос практически по всему миру. Калмыцкие диаспоры населяют США, Францию и другие европейские страны. В данном случае культурная идентичность элиты этих диаспор по отношению к современным буддийским идеям и практикам достаточно высока, т.к. не были потеряны устои их конфессиональной идентичности как представителей монгольской метаэтнической общности.
Говоря о культурной идентичности современной элиты бурятского и калмыцкого этносов, необходимо отметить, что в сферу их культурной компетентности не входит знание старомонгольского вертикального письменного языка (Хуушан Монгол), алфавит которого был инспирирован уйгурской вертикальной письменностью, а также старокалмыцкого Тод Бичиг (Ясное письмо), созданного представителем элитарного буддийского духовенства Зая Пандитой. А ведь именно на эту общую для монгольских народов письменность в свое время была переведена практически вся буддийская каноническая литература.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИМБТ СО РАН по проекту XII.191.1.3. «Комплексное исследование религиозно-философских, историкокультурных, социально-политических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и стран Центральной и Восточной Азии», номер госрегистрации № АААА-А17-117021310263-7.
Список литературы Динамика феномена этничности и этнокультурной компетентности монгольских народов в контексте идей и практик современного буддизма
- Абаев Т.Н. 2007. Этносоциальная структура и этнокультурный потенциал монгольских диаспор в г. Хулун-Буир АРВМ КНР. - Диаспоры в современном мире. Улан-Удэ: Изд-во БГУ. 287 с
- Абаева Л.Л. 2018. Религиозная культура монгольских народов в векторе буддийских традиций. Улан-Удэ: Бурят-Монгол ном. 367 с
- Губогло М.Н. 2003. Вызовы глобализации и искушения идентификации. - Идентификации идентификаций: этносоциологические очерки. М.: Наука. 763 с
- Нимаев Д.Д. 2007. Монгольские народы: этническая история и современные этнокультурные процессы: учебное пособие. Улан-Удэ: Изд-во БГУ. 145 с