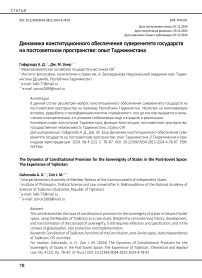Динамика конституционного обеспечения суверенитета государств на постсоветском пространстве: опыт Таджикистана
Автор: Гафурзода А.Д., Зоир Д.М.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 4 (22), 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрен вопрос конституционного обеспечения суверенитета государств на постсоветском пространстве на примере Республики Таджикистан. Несмотря на многовековую историю, разработку и трансформацию понятия «суверенитет», оно до сих пор нуждается в осмыслении и конкретизации, а в условиях глобализации еще и в защите и реализации.
Конституция таджикистана, функции конституции, постсоветское пространство, государственная независимость таджикистана, страны снг
Короткий адрес: https://sciup.org/14132213
IDR: 14132213 | DOI: 10.22394/3034-2813-2024-4-78-87
Текст научной статьи Динамика конституционного обеспечения суверенитета государств на постсоветском пространстве: опыт Таджикистана
Распад СССР в 1991 г. существенно изменил баланс сил в рамках системы международных отношений. На месте бывшей сверхдержавы возникли 15 новых независимых государств, каждое из которых должно было определить спектр своих интересов во всех сферах, включая внешнюю политику. Кроме того, на политической карте мира появился новый регион, первоначально получивший название «постсоветское пространство». Несмотря на неоднозначное отношение научного и экспертного сообществ к такому обозначению, изучение пространства бывшего СССР и входящих в него отдельных государств является актуальной темой для отечественных и зарубежных исследователей1.
Следует отметить, что в 1990–1992 гг. Конституция СССР и конституции всех союзных республик неоднократно подвергались корректировке, отражающей происходящие содержательные изменения советской государственности. Еще 20 декабря 1989 г. законом СССР в Конституцию Союза ССР были внесены изменения, касающиеся демократизации избирательной системы:«В целях обеспечения дальнейшего развития осуществляемых в стране глубоких политических и экономических преобразований, укрепления конституционного строя, прав, свобод и безопасности граждан, улучшения взаимодействия высших органов государственной власти и управления СССР» в Советском Союзе учреждается пост президента; из преамбулы исключаются слова о «возрастающей руководящей роли Коммунистической партии», а ст. 6 закрепляет многопартийность и возможность не только коммунистов, но и представителей иных партий, общественных организаций и массовых движений «участвовать в выработке политики Советского государства, в управлении государственными и общественными делами»2.
В соответствии с этими изменениями серьезной корректировке подвергаются многие конституционно-правовые институты в союзных республиках. В Таджикистане, например, законом от 23 апреля 1990 г. были внесены изменения и дополнения в ст. 6 и 7 Конституции, связанные с местом компартий Таджикской ССР в политической системе общества и содержанием прав граждан на объединение; законом от 22 августа 1999 г. были внесены изменения и дополнения, касающиеся вопросов избирательных прав граждан, компетенции высших органов государственной власти и системы органов государственной власти на местах; законом от 1 декабря 1990 г. в Конституцию были внесены изменения и дополнения, касающиеся учреждения поста Президента Республики Таджикистан и определения его места в системе высших органов государственной власти, порядка его избрания и компетенции, а законом от 7 декабря 1990 г. были пересмотрены нормы Конституции об экономической системе Республики Таджикистан и формах собственности3.
На постсоветском пространстве сформировались национальная суверенная государственность бывших советских республик. Каждое новое государство избрало свой путь развития, определило свои геополитические интересы, выбрало стратегических партнеров для развития национальной государственности и реализации национальных интересов. Этот выбор можно одобрять или не одобрять, но его следует уважать. Уважать в тех пределах, в которых он не свидетельствует о регрессе и постепенном откате либо к национал-шовинизму, либо к авторитаризму4.
-
9 сентября 1991 г. на сессии Верховного Совета были приняты Заявление и Постановление «О государственной независимости Республики Таджикистан»5. В этом постановлении признается целесообразным в целях защиты государственного суверенитета, конституционных прав и свобод граждан и территориальной целостности Таджикистана образовать Министерство обороны (ст. 2)6. В постанов-
- лении содержится поручение комитетам Верховного Совета и кабинету министров подготовить предложения о внесении изменений в действующее законодательство Республики Таджикистан, обеспечить разработку проектов законов, направленных на правовое обеспечение ее независимости;привести решения правительства в соответствие с Декларацией о суверенитете Республики Таджикистан (ст. 3).
В тот же день, то есть 9 сентября 1991 г., принимается закон Республики Таджикистан, которым вносится ряд кардинальных изменений и дополнений в Конституцию Республики, в частности по поводу определения Таджикистана как суверенного демократического правового государства. Этот день объявлен в республике праздником — Днем государственной независимости. 10 сентября 1991 г. Таджикская Советская Социалистическая Республика переименовывается в Республику Таджикистан7. К сожалению, с объявлением независимости в Таджикистане строительство новой жизни оказалось сопряженным с рядом серьезных проблем. Началась гражданская война, которая продолжалась долгих пять лет и принесла республике много бед, огромный ущерб народному хозяйству (более 7 млрд долл.) и немыслимые испытания жителям страны. По оценке ООН, более миллиона человек (всё население — примерно 7,5 млн жителей) из-за войны стали вынужденными переселенцами и более 200 тыс. — бе-женцами8.
В очень тяжелые годы гражданской войны в Таджикистане продолжалось государственно-правовое строительство. На XVI сессии Верховного Совета (16 ноября — 2 декабря 1992 г.) председателем Верховного Совета был избран Э. Ш. Рахмонов, который стал фактически главой республики.
Накопленный за первые годы силового противоборства и диалога с оппозицией опыт государственно-правового строительства Таджикистана свидетельствовал о том, что созрели необходимые предпосылки для кардинального изменения Конституции республики, которая была принята еще в 1987 г. и фактически исчерпала себя и возможности внесения в нее новых изменений и дополнений. Сформированный массив нормативных правовых актов, политические декларации, содержащиеся в многочисленных соглашениях и договорах с оппозицией, требовали упорядочивания с конституционно-правовой точки зрения.
Всё более очевидным становился тот факт, что Таджикистану нужна новая Конституция, а вялотекущую работу Комиссии по подготовке проекта новой Конституции необходимо активизировать. Так, Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан от 26 июня 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан от 23 августа 1990 г. “Об образовании комиссии по подготовке проекта новой Конституции (Основного закона) Республики Таджикистан”» послужило предпосылкой заметной активизации разработки новой Конституции. Постановлением Верховного Совета был утвержден новый состав Комиссии под руководством председателя Верховного Совета Республики Таджикистан Э. Ш. Рахмонова.
С учетом поручений XVIII сессии Верховного Совета Республики Таджикистан в начале апреля 1994 г. рабочая группа по подготовке проекта новой Конституции представила на рассмотрение Комиссии два альтернативных проекта, потому что у общественно-политических сил были полярные точки зрения, особенно по поводу формы государственного правления.
В проектах сторонников как парламентарной, так и президентской республики было много общего, что существенно облегчало и ускоряло подготовку единого документа. Оба проекта предусматривали республиканскую форму правления, приоритет прав человека, разделение властей, различные формы собственности, институт президентства, политический плюрализм и легальное существование оппозиционных партий, а также статус местных органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, представленные проекты имели преамбулу, в которой декларировались такие ценности, как гражданский мир, согласие, свобода, вера, добро и справедливость; отмечалось, что Таджикистан является неотъемлемой частью мирового сообщества, подтверждалась приверженность идеям национальной государственности, признания прав и свобод человека и гражданина.
Оба проекта провозглашали Таджикистан суверенным демократическим, правовым, светским и унитарным государством и гарантировали каждому его гражданину условия, необходимые для достойной жизни и труда, независимо от национальности, вероисповедания и политических убеждений. Вместе с тем в проектах содержалось и немало различий. Конституционная комиссия в результате обсуждения проектов приняла решение рекомендовать Верховному Совету Республики Таджикистан вынести на всенародное обсуждение проект Конституции президентской республики. Формальным основанием для отклонения проекта Конституции, предусматривающего создание парламентской республики, были ссылки на отсутствие в Таджикистане традиций парламентаризма, реальной многопартийности, низкий уровень политической культуры населения. Как представляется, многие из этих элементов действительно в тот период имели место. Однако сама обстановка в республике, существование вооруженной оппозиции, экономическая стагнация ориентировали на сильную президентскую власть.
В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан 13 апреля 1994 г. проект новой Конституции был опубликован в средствах массовой информации. После широкого обсуждения и доработки с учетом высказанных замечаний и предложений проект в соответствии с Постановлением XX сессии Верховного Совета Республики Таджикистан от 7 сентября 1994 г. был вынесен на общенародное голосование (референдум)
После опубликования проекта Конституции, но до референдума Верховным Советом Республики Таджикистан был принят закон от 20 июля 1994 г. № 974 «О конституционной реформе, порядке принятия и введения в действие Конституции Республики Таджикистан». В преамбуле закона отмечалось, что с окончанием гражданской войны, в ходе постепенного преодоления ее последствий, в результате напряженного труда народа, усилий центральных и местных органов государственной власти и управления и при поддержке Содружества Независимых Государств, других стран, международных организаций созданы условия для осуществления радикальных преобразований во всех сферах жизни общества на основе новой Конституции Республики Таджикистан. Отмечалось, что состоявшееся в апреле – июне 1994 г. всенародное обсуждение проекта Конституции Республики Таджикистан, в ходе которого он получил широкую поддержку, подтверждает необходимость осуществления конституционной реформы и требует в ближайшее время принять Конституцию Республики путем народного голосования (референдума). Верховный Совет подчеркнул, что институт президентства, предусмотренный в проекте Конституции, получил одобрение большинства участников его обсуждения, и это позволяет развернуть работу по подготовке и проведению выборов президента Республики Таджикистан9.
В постановляющей части закона среди иных положений закреплялось, что Конституция Республики Таджикистан будет считаться принятой, если за нее проголосует более половины избирателей Республики Таджикистан, принявших участие в референдуме. Законом учреждался пост президента Республики Таджикистан, устанавливалось, что его выборы будут проводиться на основе специального закона.
-
6 ноября 1994 г. состоялся референдум по принятию Конституции, в котором приняли участие 2 535 437 граждан, или 94,4 % от общего числа избирателей. За принятие Конституции Республики Таджикистан было подано 2 352 554 голоса, или 87,59 %. Конституция вступила в силу10.
Как справедливо отмечает В. Д. Зорькин: «Конституциям, принятым в государствах, ранее бывших республиками СССР, в первой половине 90-х гг. прошлого века, принадлежит особая роль в истории этих стран. На их основе государства сумели пройти сложнейшие годы крайне масштабных, воистину революционных трансформаций, не обрушив общество и не потеряв государственность. Совершая действительно историческую революцию, именно в конституциях мы получили тот правовой фундамент, который обеспечил политическую, экономическую, социальную целостность обретших суверенитет стран»11.
По нашему мнению, «некоторые конституции развивающихся стран стали законодательной основой нового политического и социально-экономического развития этих государств. Политика этих стран направлена на развитие рыночных отношений и строительство социального правового независимого государства.
Развитие этих отношений, изменение общественно-политического и социально-экономического устройства развивающихся государств, их вхождение в рынок, требует осмысления и понимания общественных реалий и их регулирования нормами права»12.
В таджикской юридической литературе Конституция 1994 г. оценивается неоднозначно. Наряду с признанием ее несомненного значения в укреплении таджикской государственности отмечаются и слабые стороны, технико-юридические просчеты, «скупость» в прописывании ряда конституционноправовых институтов и т. д. Несомненно, таджикская конституция, как, впрочем, и большинство конституций государств мирового сообщества, имеет свои слабые стороны и недостатки; очевидно, что не всё из задуманного и предлагавшегося участниками конституционного процесса удалось реализовать в тексте этого документа. Но у Таджикистана не было выбора: стране нужен был Основной закон, для того чтобы остановить противостояние легитимной власти и оппозиции, преодолеть раскол в обществе, закрепить всё то позитивное, что было накоплено за последние годы.
Сходные движущие силы в 1993 г. обусловили появление Конституции Российской Федерации, содержание которой уже более десяти лет вызывает дискуссии российских ученых. Один из разработчиков российской Конституции С. Шахрай, вспоминая обстоятельства ее подготовки, прямо пишет, что общественно-политическая ситуация не оставила выбора: либо «хасбулатовская» конституция в неопределенном будущем, с вертикалью Советов и всевластием Cъезда, либо конституция, подготовленная в сжатые сроки, но способная выдержать испытание временем за счет гибкой системы прописанных сдержек и противовесов. Обстоятельства, отмеченные С. Шахраем, применительно к Конституции Таджикистана не должны восприниматься как некое оправдание недостатков: была, мол, сложная обстановка, поэтому и получилось так, как получилось. Дело в ином — в подходе к оценке предложенной модели действующего Основного закона республики с позиций науки конституционного права. Отметим ряд важных для такой оценки моментов.
Первое. Как известно, теория конституционализма различает конституцию юридическую и фактическую, или формально-юридическую. Под конституцией в формальном смысле, как правило, понимается закон, принимаемый и изменяемый в особом порядке и обладающий высшей юридической силой по сравнению с иными нормативными актами. Под конституцией в материальном смысле понимается совокупность норм, предметом регулирования которых является главным образом организация государственной власти. При этом не имеет значения происхождение норм: содержатся ли они в одном особом правовом акте, нескольких актах или вообще являются нормами неписаного, судебного и обычного права.
При всем многообразии понимания конституции и ее сущностных свойств в демократической конституционной доктрине издавна подчеркивается главное: конституция призвана ограничить государственную власть. Известный российский государствовед Е. В. Спекторский еще в 1917 г. писал, что конституционное государство — это государство, в котором власть не только организована, но и юридически ограничена, и «совокупность таких ограничений образует конституцию данного государства». Современный французский исследователь Б. Шантебу констатирует: конституция — это «хартия, которая ограничивает власть в рамках государства и власть государства в рамках общества». «Усилить конституционализм, — по мнению японского ученого Х. Йохи, — это значит усилить эффективность ограничения власти государства». Реализация этого тезиса в практике конституционно-правового строительства Таджикистана была крайне важна. Как уже отмечалось, «диффузия власти» при отсутствии механизмов контроля за принимаемыми решениями нередко приводила к тому, что эти решения, принимаемые «за закрытыми дверями», приводили к эскалации насилия и углублению раскола в обществе. Достаточно вспомнить факты применения оружия против митингующих в Душанбе. Именно поэтому в Конституции заложен юридический механизм ограничения власти. Прежде всего, речь идет о прямом запрете узурпации власти или присвоения ее кем бы то ни было (ст. 6); о Конституционном суде (ст. 84), призванном обеспечить цивилизованное разрешение возможных споров о власти и «увести» конфликтующие стороны с улиц и баррикад в зал судебного заседания.
Второе. В характеристике сущности конституций и причин их появления, как правило, доминируют два подхода, достаточно условно обозначаемые как классово-политический и рационалистический. Суть первого подхода, ориентированного на закрепление нормами конституции классовых или групповых интересов, сформулирована Ф. Лассалем: «Конституция является действительным отношением общественных сил страны»13, а позднее воспроизведена В. И. Лениным в тезисе: «…Сущность конституции в том, что основные законы государства… выражают действительное соотношение сил в классовой борьбе»14.
Сторонники рационалистического подхода, не отрицая роль социально-политических факторов, акцентируют внимание на служебной роли конституции как позитивного документа, закрепляющего государственную организацию и основы статуса личности, упорядочивающего общественные отношения и содействующего их движению вперед.
Не секрет, что очень часто именно общественные катаклизмы, борьба различных сил за власть и итоги этой борьбы, как бы мы ни называли этот процесс — классовой борьбой или борьбой социальных сил, — обуславливают один из главнейших результатов — появление новой конституции. Данный факт можно рассматривать и как проявление определенного консенсуса независимо от того, каким путем стороны пришли к нему. Главное — не допустить или прекратить вооруженные или физические столкновения, не «задушить в конституционных объятьях» плюрализм мнений и идей, поскольку без борьбы идей не обходятся даже внутренне достаточно стабильные общества.
Не менее важна и конструктивистская роль конституции, поскольку с появлением Основного закона, адаптированного к социально-политическим реалиям и учитывающего их динамику, общество получает фундаментальную государственно-правовую основу, дает начало новому общественно-политическому укладу жизни, он становится обязательным, в том числе и для тех, кто сопротивлялся принятию конституции. В соответствии с конституцией создаются и начинают действовать государственные органы, появляются развивающие конституцию законодательные акты, складывается запрограммированный ею политический режим.
Конституция Таджикистана должна была сыграть и действительно сыграла эту двоякую роль. Как позитивный документ, она закрепила основы государственного и политического устройства страны, продемонстрировала силу и уверенность легитимной власти, способной в условиях продолжающейся вооруженной конфронтации не просто подготовить проект документа, но и организовать его широкое обсуждение и принятие путем всенародного голосования. Откажись непримиримая оппозиция от участия в этом процессе, она продемонстрировала бы свое противостояние не власти, а народу. Как конструктивный документ, конституция предложила всем общественно-политическим силам страны тот государственно-правовой фундамент, который способен обеспечить консолидацию общества и национальное согласие.
Конституция, определив народ Таджикистана носителем суверенитета и единственным источником власти, консолидировала всех граждан республики независимо от национальности (ст. 6). Она даже пошла дальше, легализовав право на существование политических партий не только светского, но и религиозного характера (ст. 28). Уравновешивая это право с интересами незыблемости конституционного строя и сохранения статуса светского государства, конституция отделила религиозные организации от государства, запретила им вмешиваться в государственные дела, поставила вне закона те общественные объединения и партии, которые пропагандируют расовую, национальную, социальную и религиозную вражду (ст. 8).
Третье. Содержание Основного закона образует совокупность конституционных норм, институтов и принципов, регулирующих общественные отношения, определяющих организацию государственной власти, ее взаимоотношение с обществом и образующими его социальными группами. Отсюда — проблема определения предмета и пределов конституционного регулирования, которая в той или иной конституционной модели — либеральной, этатистской и либерально-этатистской — определяется ролью государства, масштабами его вмешательства в жизнь общества и граждан.
При всей внешней привлекательности либеральной модели, для которой характерны ограниченность предмета конституционного регулирования организацией государственной власти и закреплением правового статуса личности, ограниченность гражданских и политических прав и свобод, она во многом архаична для современных условий развитых демократических стран. Тем более она не подходит странам, где процесс перехода к новому обществу находится на начальной стадии и где более или менее длительное время государство осуществляло тотальное вмешательство в экономическую, социальную и духовную сферы жизни общества, что особенно характерно для постсоциалистических и развивающихся стран.
В либерально-этатистской модели предмет конституционного регулирования расширен за счет включения общественных отношений, определяющих основы организации общества, а также отношений между личностью и государством (предоставление социальных благ в форме экономических, социальных и культурных прав, реализация которых невозможна без содействия государства), но такое расширение предмета конституционного регулирования, в отличие от этатистской модели, осуществляется в оптимальных пределах, обеспечивающих нормальное функционирование механизма саморегулирования общества и исключающих возможность чрезмерного вмешательства государства.
К этой модели относятся основные законы многих стран со зрелой демократией (конституции второго поколения в ФРГ, Франции, Италии, Испании, Португалии и др.), всех постсоциалистических и большинства развивающихся стран. В Конституции Таджикистана либерально-этатистская модель получила воплощение во второй главе, предусматривающей права, свободы, основные обязанности человека и гражданина. Отражена она и в ст. 12, провозгласившей многоукладность национальной экономики и государственные гарантии свободы экономической и предпринимательской деятельности, правовой защиты всех форм собственности, в том числе частной.
Четвертое. Конституция как Основной закон является главным источником системы национального права, юридической базой правотворческой и правоприменительной практики. В ней определены главные цели и объекты правового регулирования, то есть предусмотрены сферы общественных отношений, подлежащие правовому регулированию, и указаны те конкретные законы, которые должны быть приняты. В связи с этим важнейшее юридическое свойство — ее верховенство, означающее приоритетное положение в системе и изменения конституции и придания ей высшей юридической силы. Все правовые акты должны соответствовать конституции и в случае противоречия являются недействительными. В этом свойстве конституции находит отражение один из признаков правового государства — верховенство права, прежде всего конституции.
В конституциях значительной группы стран со зрелой демократией прямо не говорится ни о верховенстве этого документа, ни о высшей юридической силе. Это свойство презюмируется, само собой подразумевается как присущее конституции правового государства по определению. Умалчивали об этом свойстве, правда по иным причинам, и конституции стран с тоталитарным или авторитарным режимом, поскольку там высшим законом была не конституция, а устав или программа единственной правящей партии, что иногда признавалось прямо и официально (например, ст. 6 Конституции Алжира 1976 г.) либо косвенно (ст. 6 Конституции СССР и соответствующие статьи конституций всех союзных республик).
В Конституции Таджикистана, как и в конституциях всех постсоветских государств, зафиксирована ее высшая юридическая сила и прямой характер действия конституционных норм (ст. 10). Учитывая, что конституция является «генеральным планом» государственного устройства, в Конституции Таджикистана предусмотрено некое «поле правовой свободы», которое по мере развития и укрепления государственности, уточнения функциональных возможностей институтов публичной власти должно заполняться конкретизирующими этот «план» законодательными нормами.
Вместе с тем в Конституции не удалось избежать норм неопределенно уполномочивающего характера, адресованных высшим государственным органам и должностным лицам. Так, в п. 26 ст. 49, п. 7 ст. 52, п. 8 ст. 54, п. 26 ст. 69 и п. 3 ст. 89 Конституции 1994 г. за соответствующими субъектами предусмотрено право осуществления (исполнения) «других полномочий, определяемых конституцией и законами». Такая норма, по справедливому замечанию А. Имомова, считается «очень скользкой и не характерной для конституций, поэтому конституции других стран воздерживаются от установления таких норм, так как они дают шанс высшим структурам власти через законы обойти или смягчить некоторые неугодные им конституционные нормы и расширить пределы своей компетенции»15.
Пятое. Одним из юридических свойств конституции как Основного закона является ее стабильность — важнейшее условие режима законности, устойчивости всей правовой системы и организации государственной власти, определенности отношений между личностью и государством. Стабильность конституции зависит от многих объективных и субъективных факторов (например, от состояния наиболее важных общественных отношений, составляющих предмет конституционного регулирования, от отношения к ней общества и государственной власти, от уровня политической и правовой культуры и т. д.), стабильность конституции, отмечает С. А. Авакьян, основывается на незыблемости самого социального строя, отраженного в ней. Вместе с тем стабильность конституции определяется и ее содержанием, в частности, степенью конкретизации и детализации системы организации государственной власти и возможностью внесения изменений и дополнений в Основной закон16.
Как правило, чем больше в конституции конкретных детализированных норм, которым место в обычном законодательстве, тем чаще возникает необходимость внесения поправок в Основной закон. Ярким примером в этом отношении была Конституция СССР 1936 г. и соответствующие конституции союзных республик, в которых, как нами уже отмечалось, содержался перечень министерства и ведомств, а изменения их названий требовали внесения поправок в Конституцию.
В ходе подготовки Конституции Таджикистана 1994 г. в одном из альтернативных проектов предлагалось ввести специальный раздел, посвященный силовым структурам. Конституционная комиссия не пошла по этому пути и не стала прописывать в Конституции саму систему организации исполнительной власти, отнеся этот вопрос к компетенции президента и правительства республики. Аналогичный верный подход используют и конституции иных государств, в том числе Российской Федерации. Однако в отличие от Конституции России, в Основном законе Таджикистана выделены в отдельную главу нормы, посвященные прокуратуре17.
Стабильность конституций связана со сложными процедурами их изменения. Эта сложность имеет два последствия. С одной стороны, специальные процедуры обеспечивают длительность действия конституций без внесения существенный изменений, с другой — сложные процедуры изменения конституции могут превратить ее в конституцию формальную, оторванную от действительности.
Конституция Таджикистана предусматривает возможность ее изменения и устанавливает необходимые для этого процедуры (гл. 10). В силу ст. 100 не может быть изменена форма правления, территориальная целостность, демократическая, правовая, светская и социальная сущность государства. Жесткость данной формулировки вызывает критические замечания ряда ученых, в том числе А. Имомова, считающего подобную формулировку не соответствующей теории права и государства. Действительно, многие конституции— Испании, ФРГ, США, Российской Федерации, Мексиканских Соединенных Штатов, Китайской Народной Республики, Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Узбекистана, Швеции, Японии — не содержат норм о неизменности основ конституционного строя. Конституции Греции (ст. 110), Италии (ст. 139), Соединенных Штатов Бразилии (ст. 217), Туркменистана (ст. 115), Франции (ст. 89), Исламской Республики Иран (ст. 177) и некоторых других стран устанавливают неизменность лишь республиканской формы правления. Конституция Соединенных Штатов Бразилии дополнительно признает неизменным и федеративное государственное устройство (ст. 217). Примечательной является норма ст. 110 Конституции Греции, которая, наряду с неизменностью парламентской республики, объявляет о неизменности положений статей, посвященных уважению и охране личности, равноправию граждан перед законом, нерушимости личной свободы, свободы совести и организации государственной власти на основе принципа разделения властей.
Критика А. Имомовым ст. 100 Конституции Республики Таджикистан вызвана констатацией в ней неизменности не только формы правления, но и сущностных характеристик государства: демократической, правовой, социальной. Как представляется, уважаемый ученый противоречит сам себе. Верно подчеркивая, что сущность государства находит свое конкретное выражение в функциях государства (точнее сказать, не только в функциях, но и в государственной политике), а их содержание не остается неизменным, он делает вывод: «…Изменение основных целей и функции государства непременно влечет изменение и сущностных характеристик государства». В связи с этим положения ст. 100 Конституции Таджикистана в части неизменности сущностных характеристик государственности должны вызывать не удивление, а удовлетворение, поскольку неизменными провозглашаются цели и содержание деятельности государства. Иными словами, всенародным голосованием закреплено, что при любых содержательных изменениях в функционировании государства (расширение или сужение полномочий президента или парламента, упразднение института президентуры, расширение или сужение полномочий центральных и местных органов исполнительной власти) само государство не должно трансформироваться в клерикальное, тоталитарное, антинародное. Строго говоря, суть межтаджикского конфликта как раз и заключалась в том, что оппозиция хотела изменить сущностные характеристики государственности Таджикистана, в частности превратить его в исламское государство, неизменность которых и зафиксирована ст. 100 действующей Конституции республики.
Неизменность сущностных характеристик государственности, то есть ее стабильность, неразрывно связана со стабильностью самой Конституции. Эта проблема стала своеобразным стержнем многоаспектного обсуждения современного конституционализма, состоявшегося 14–15 марта 2013 г. в Санкт-Петербурге в рамках Международной научно-практической конференции, приуроченной к 20-летию Конституции Российской Федерации. В докладах ведущих российских и зарубежных конституционалистов — участников конференции: председателя Конституционного Суда Республики Армения Г. Г. Арутюняна, одного из разработчиков действующей Конституции России 1993 г. С. М. Шахрая, председателя Конституционного Суда Республики Болгария Е. Танчева и др. с той или иной определенностью звучала мысль, наиболее рельефно сформулированная Б. С. Эбзеевым: «Находящейся в процессе становления демократии угрожают две опасности. Революционный дух требует постоянных реформ, дух консервативный видит сохранение государственной идентичности в неприкосновенности сложившихся организационных и политических форм. Противостояние между ними влечет периодические кризисы и даже кровавые конфликты».
Справедливость этих слов таджикская государственность испытала на себе. Именно поэтому для Республики Таджикистан, ее многонационального народа так важно, чтобы столкновение революционного духа с духом консервативным, столкновение инноваций и традиций сопровождалось только поступательным движением вперед без кризисов и тем более конфликтов. В таком поступательном движении государства огромную роль играет стабильность Конституции Республики Таджикистан, конституционный принцип о неизменности сущностных характеристик таджикской государственности.
Список литературы Динамика конституционного обеспечения суверенитета государств на постсоветском пространстве: опыт Таджикистана
- Пашковский П. И. Проблема интерпретации понятия "постсоветское пространство" // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2015. Т. 1 (67), № 4. С. 41-48. EDN: YQADHJ
- Зоиров Д. М. Таджики: от государства Саманидов до суверенной государственности (историко-правовой анализ). СПб.: Реноме, 2014. 287 с. EDN: YKGSMH
- Рахмон Э. Мир, единство и национальное согласие // Мир cодружества. 2011. С. 54-55.
- Зорькин В. Д. Роль конституций постсоветских государств в формировании новой государственности // Право и государство. 2015. № 3 (68). С. 22-24. EDN: VEDMEZ
- Лассаль Ф. Сущность конституции. Что же дальше? СПб.: Молот, 1905. 64 с.
- Имомов А. Разработка и принятие первой Конституции Таджикистана // Укрепление законности и правопорядка, совершенствование Советского законодательства и социалистической государственности. Вып. 2. Душанбе, 1978. С. 270.
- Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 1997.
- Маджидзода З. Д. Конституция Республики Таджикистан: 20 лет. Теория и история, право, эволюция, современность, сравнительный анализ, законодательство. Душанбе: Эр-граф, 2014. 152 с.
- Гафуров А. Д. Формирование и развитие финансового права развивающихся стран (на примере Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан) // Душанбе: Сино, 2017. 352 с. EDN: VRQSSB