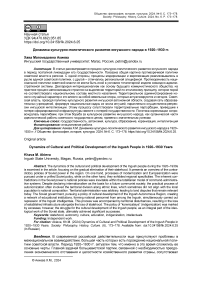Динамика культурно-политического развития ингушского народа в 1920-1930 гг
Автор: Акиева Х.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс культурно-политического развития ингушского народа в период поэтапной ликвидации его государственности. Показана общая картина противоречивой политики советской власти в регионе. С одной стороны, процессы модернизации и европеизации реализовывались в русле единой советской политики, с другой - отличались региональной спецификой. Противоречивость национальной политики советской власти не могла быть иной в условиях тоталитарной модели командно-административной системы. Декларируя интернационализм как основу будущего коммунистического общества, на практике процесс автономизации строился на выделении территорий по этническому принципу, которое порой не соответствовало национальному составу местного населения. Территориальное администрирование носило случайный характер и это влекло за собой земельные споры, которые актуализируются и сегодня. Советская власть, проводя политику культурного развития ингушской автономной области, создавая сеть образовательных учреждений, формируя национальные кадры из числа ингушей, параллельно осуществляла репрессии ингушской интеллигенции. Этому процессу сопутствовали территориальные пертурбации, приведшие к потере сформированной инфраструктуры вместе с потерей государственности. Политика коренизации сопровождалась перегибами, при этом борьба за культурное развитие ингушского народа, как органической части идеологической работы советского государства в целом, привела к значительным успехам.
Государственность, автономия, культура, образование, коренизация, интеллигенция
Короткий адрес: https://sciup.org/149145934
IDR: 149145934 | УДК: 94(470.662):351.85 | DOI: 10.24158/fik.2024.6.25
Текст научной статьи Динамика культурно-политического развития ингушского народа в 1920-1930 гг
ряд других, не менее важных: ликвидация безграмотности, развитие сети культурно-просветительских учреждений с тем, чтобы охватить все разнообразие быта народов страны. То, как происходило культурно-политическое развитие ингушского народа в 1920–1930 гг., является главной целью исследования.
Методы . В числе исторических проблем, которые подвергались пересмотру в рамках цивилизационного, культурологического, синергетического и других подходов, оказался вопрос культурно-национальной политики советской власти. Во многом дискуссионный характер широкой проблематики – национальной политики советского государства – выступает в отечественной историографии объектом междисциплинарных исследований. Операционные возможности цивилизационного подхода позволили акцентировать внимание на механизме культурных процессов, происходивших в указанное время в ингушской среде. Используемый метод историко-культурного и системного анализа позволяет провести оценку результатов национальной политики советской власти в отношении ингушского народа.
Обсуждение . Вопрос реализации культурно-национальной политики советской власти на Кавказе не раз становился предметом исследования. Однако эти исследования в большей степени относились к трудам, посвященным партийной дискуссии о теории и методологии решения национального вопроса, об объеме полномочий автономных областей и республик и т. д. В постсоветский период приоритетными темами становились вопросы нациестроительства, депортации народов, истории отдельных наций и народностей. Целенаправленное изучение послереволюционной динамики культурно-исторического развития Ингушетии с 1924 г., когда была образована Ингушская автономная область, еще не получило должного освещения.
Содержание и характер культурно-национальной политики советского государства в 1920– 1930 гг. определялись решениями X (1921) и XII (1923) съездов КПСС. На фоне других важнейших вопросов была поставлена цель – ликвидировать неравенство наций, связанное с различиями экономического развития районов.
Культурно-историческое развитие ингушского народа в указанный период шло в русле общесоветских тенденций. С начала XX в. на Северном Кавказе началась культурная революция. Приоритетными задачами советской власти были объявлены ликвидация неграмотности, расширение культурного охвата населения и коренизация государственного аппарата. Для их реализации быстрыми темпами формировалась сеть культурных учреждений, профессиональных учебных заведений, население вовлекали в общественно-культурную работу.
В ходе работы 2-й Горской областной конференции РКП(б) (август 1921 г.) было уделено особое внимание проблемам развития прессы, школы, театра, клубного дела, культурно-просветительских учреждений, отмечалась крайняя необходимость подготовки туземных кадров на родном языке: «квалифицированных рабочих и советско-партийных работников по всем областям управления и прежде всего в области просвещения» (Мартиросиан, 1933: 288).
В свое время писатель И. Базоркин вспоминал: «В каждом учебном заведении у нас были кружки. В 1924 г. во Владикавказском педагогическом техникуме было около 90 участников различных кружков. Действовали свои “синеблузы”, агитбригады, вольные движения»1. В 1925 г. было создано общество «Долой неграмотность», в результате деятельности которого уже в следующем году показатель грамотности населения вырос на 8,3 % (в 1920 г. он составлял 3,0 %) (Очерки истории Чечено-Ингушской АССР…, 1972: 118). Увеличилось количество студентов рабфаков, как и доля ингушей, обучавшихся в вузах страны (от 19 чел. в 1929 г. до 104 чел. в 1932 г.)2. В Ингушском педагогическом техникуме им. А.И. Микояна, открытом в 1924 г. во Владикавказе, обучалось 85 ингушей, а в 1927 г. – 115 (Каймаразов, 1988: 64). В 1932 г. открыл свои двери Ингушский дом искусства «Диск». Он был создан при Горском пединституте и под руководством О. Мальсагова стал национальным культурным центром. В это же время при центре стала работать театральная студия3.
Тем не менее в Ингушском облисполкоме в том же 1921 г. отмечали тяжелое культурноэкономическое состояние Ингушетии, вызванное низкими возможностями местного бюджета и отсутствием целевой финансовой помощи центра. Тренд на улучшение ситуации наметился в 1924 г. Так, если в 1923 г. на душу населения приходилось 50 коп., то в следующем – 1 руб. 20 коп.4 Темпы работы по ликвидации безграмотности при деятельности обществ, комиссий, ликбезов, новых школ в сельской местности, оказании методической помощи и т. п. оставались явно неудовлетворенными, а уровень грамотности – крайне низким.
Процесс развития ингушской культуры был осложнен административно-территориальным строительством, осуществляемым советской властью в регионе. Так, в 1934 г. Ингушская автономная область утратила свой статус и присоединилась к Чеченской. Одновременно Ингушетия лишилась Владикавказа со всеми его политическими и общественно-культурными учреждениями.
Так, например, Терский музей был основан первыми представителями национальной интеллигенции, среди них: этнограф и историк Чах Ахриев, литератор Асланбек Базоркин, народоволец Саадулла Ахриев; общественные деятели Инал Бекбузаров, Адиль-Гирей Долгиев, Кураз Мальса-гов, Сай Мальсагов; полковник Пшемахо Дахкильгов, генерал Тонт Укуров и др. Дореволюционный Терский областной музей, существовавший во Владикавказе, после Октябрьской революции в 1918 г. перешел в ведение комиссариата народного просвещения и стал называться «Дом науки и краеведения» (Семенов, 1925: 4). Впоследствии, в 1920 г., на основании Терского музея был создан Северо-Кавказский институт краеведения. В декабре 1926 г. на базе института и Ингушского литературного общества, основателем которого был З.К. Мальсагов, открылся Ингушский научно-исследовательский институт краеведения. Большая часть научных исследований публиковалась в «Известиях Ингушского института краеведения» (до 1934 г. было издано 4 выпуска). При НИИ успешно работала аспирантура, готовившая будущих специалистов – историков и лингвистов.
Во время реорганизации Северо-Кавказского института краеведения часть его фондов была отправлена в Ростов-на-Дону, где создавался музей горских народов Северного Кавказа, а другая часть – передана Ингушскому научно-исследовательскому институту. При институте работал ингушский научный музей, открывавший свои двери для местного населения три раза в неделю, а для иностранцев – ежедневно. Здесь читались открытые лекции по истории и культуре ингушского народа. Сотрудники музея проводили полевые экспедиции, осуществляли сбор материала, пополняли фонды закупленными у населения горной Ингушетии предметами быта и археологии.
В рамках экспедиций 1924–1925 гг. в Чечне и Ингушетии вместе с русскими художниками Ф.М. Черноусенко, В.С. Шлепневым и художником-архитектором И.П. Щеблыкиным работали первые ингушские профессиональные художники Х-Б. Ахриев и У. Даурбеков. Результатом работы экспедиций стала коллекция, включавшая 463 черно-белых и цветных рисунка с натуры, созданных в разной технике, которые были посвящены повседневной горской жизни. Таким образом, институт и его научный музей стали той научно-исследовательской и культурно-просветительской площадкой, где была сконцентрирована элита ингушской культуры и науки.
Хотя Чеченская автономная область в 1934 г. была объединена с Ингушской, музеи продолжали свободно работать вплоть до 1940 г. В 1936 г., согласно принятой новой Конституции, ЧеченоИнгушская область получила статус автономной республики. С этого времени началось объединение окружного музея по истории, культуре и религии Грозного с фондами Ингушского музея.
В 1938 г. в Грозный была перевезена богатая библиотека – около 22 754 томов, а в 1940 г. – коллекция бывшего областного Ингушского музея, насчитывавшая 4 000 экземпляров фонда (Пономарева, 1975: 15). При этом большая часть музейных предметов осталась в Орджоникидзе (бывший Владикавказ), как и часть научной библиотеки, насчитывавшей около 7 000 томов книг (Нана-ева, 2016: 52). Так, бывший окружной Чеченский музей стал называться Чечено-Ингушским музеем, а Ингушский областной в Орджоникидзе приобрел статус музея Пригородного. То же самое произошло и с фондами Архивного бюро. Уже после распада Горской АССР большая часть архивных документов была передана Архивному бюро Северной Осетии, Ингушское бюро получило только фонды Терской областной чертежной мастерской. Чуть позже, в 1937 г., в связи с объединением фонды Архивного бюро Ингушетии были переданы в Чечено-Ингушский областной архив.
В числе культурно-образовательных и научных центров Владикавказа с соответствующей инфраструктурой, которые в 1934 г. ингуши были вынуждены оставить, можно назвать Ингушский педагогический и индустриальный техникумы, Общегорский зоотехнический ветеринарный техникум (1928), областную опытно-показательную школу (1924), орган Ингушского окружного комитета РКП(б) и Ингушского окрисполкома – газету «Сердало» (1923) и одноименное издательство (1928), Ингушский любительский театр, Архивное бюро, Центральную ингушскую больницу и т. д.
Ингушская интеллигенция, развивавшая во Владикавказе свою культуру, науку, просвещение, театр, литературу и т. д., была вынуждена начинать все заново на территории новой республики. Отметим, что город в ту пору был динамично развивающимся и входил в пятерку самых крупных южных городов страны, уступая по численности населения только Ростову-на-Дону, Краснодару и Грозному.
Результатом советской политики размежевания и объединения стала потеря ингушами наработанной во Владикавказе ресурсной базы, а оставшаяся часть была введена в составы соответствующих профилирующих учреждений (Акиева, 2021). Конечно, данным политическим решениям предшествовала чистка ингушской партийной номенклатуры, обвиненной в ноябре 1928 г. в буржуазном национализме и троцкизме. В частности, подвергся репрессиям Идрис Зязиков. До 1929 г. он являлся секретарем Ингушского обкома партии и был ярым противником объединения (за что был дважды подвергнут аресту и умер в 1938 г. в тюрьме НКВД Грозного). И хотя история создания Чечено-Ингушской автономии – отдельный и достаточно противоречивый вопрос, выходящий за рамки нашей темы, отметим, что были сторонники данного решения. Так, «активность проявили языковеды: местный – Заурбек Мальсагов… и московский – Николай Яковлев, оба ратовавшие за унификацию письменности чеченцев и ингушей… оба недвусмысленно указывали на реальность перспективы объединения двух родственных народов» с перспективой создания некоей региональной доминанты – Нахистана (Карпов, 2016: 186).
Чуть позже, в июне 1936 г., было принято решение о переносе центра Пригородного района Чечено-Ингушской автономной области из Орджоникидзе (бывший Владикавказ) в селение Ба-зоркино. И хотя постановление Президиума ВЦИК сразу не было реализовано ввиду недовольства ингушей, к нему вернулись в 1940 г. с той лишь разницей, что вместо селения Базоркино новым центром определялось селение Шолхи1.
В Чеченской автономной области также шла работа по созданию своей научной и культурно-просветительской базы. В 1924 г. в Грозном открылся Окружной музей по истории культуры и религии, а в 1925 г. – Общество изучения края. В 1929 г. произошло объединение Чеченского краеведческого общества и Грозненского научного общества, а в 1930 г. на их основе открылся Чеченский научно-исследовательский институт краеведения с присвоением ему имени «Десятилетие Советской власти в Чечне».
В 1934 г. в созданный Союз советских писателей вошли также ингушские писатели и поэты: С. Озиев, Д. Мальсагов, И. Базоркин, Х-Б. Муталиев, Х. Осмиев, Х-Б. Муталиев, Дж. Яндиев и др. Ингушские актеры влились в состав Чечено-Ингушского театра и теперь должны были выступать на сцене на чеченском языке. В 1939 г. начал работу Чечено-Ингушский союз советских художников. Его открытию предшествовала серия республиканских выставок, посвященных годовщине Великого Октября. Для рекрутинга талантливой молодежи, из которой планировалось формировать профессиональных живописцев, скульпторов, графиков и т. д., в Грозном создается ИЗОстудия. Уже через год корреспонденты газеты «Сердало» отметили работы Сулейманова и братьев Сайтаевых: «талантливые молодые художники – рабочие нефтеперегонных заводов»2.
Тренд на европеизацию, задаваемый советской культурной политикой вкупе с борьбой против мусульманского миропонимания (сопровождавшейся закрытием мечетей, репрессиями духовных лидеров и т. д.), последствиями гражданской войны, порождал неоднозначное отношение к новой культуре.
В 1936 г. была поставлена задача в достижении 60 % удельного веса чеченцев и ингушей в аппарате, а уже к началу 1937 г. коренизация была произведена на 70 %3. Однако делопроизводство велось на русском языке, все остальные документы на национальных языках «зачастую не принимались к производству в судебных учреждениях республики» (Сигаури, 2001: 145). На фоне культурного и научного развития жизни ЧИАССР происходили репрессии местных коммунистов и комсомольцев. Известен список НКВД августа 1937 г., по которому были арестованы более 200 крупных партработников и хозяйственных управленцев (Бугай, 1990). Генеральная репетиция по выявлению и ликвидации буржуазных националистов, троцкистов и иных антисоветских элементов продолжалась и дальше. Собственно, ликвидировались по большей части те кадры, которые были сформированы благодаря политике коренизации (Акаев, 2017: 133). Положение усугублялось тем, что на смену репрессированным приходили малограмотные работники (имевшие среднее и начальное образование), доля которых в местном аппарате власти к 1937 г. составляла 28 % (Филькин, 1963: 117).
Заключение . Традиционная культура ингушей претерпела за довоенные годы серьёзные изменения, и их последствия нельзя упрощать. Период 1920–1930 гг. в жизни ингушского народа крайне противоречив. При этом политическое и культурное строительство шло в русле общесоветских тенденций. Политика коренизации, ликвидации безграмотности и широкого культурного развития ингушского народа сопровождалась репрессиями ингушской интеллигенции, передачей наработанной культурно-образовательной инфраструктуры другим административным единицам вместе с сокращением территории и потерей собственной автономии. Несмотря на то, что политика коренизации характеризовалась перегибами, борьба за культурное развитие ингушского народа, как органической части идеологической работы советского государства в целом, привела к значительным успехам.
Список литературы Динамика культурно-политического развития ингушского народа в 1920-1930 гг
- Акаев В.Х. Большой террор в Чечено-Ингушетии. «Контрреволюционная деятельность» воспитанника советской системы Хаси Вахаева // Nowa Polityka Wschodnia. 2017. № 3 (14). С. 130–135.
- Акиева П.Х. Справедливость и право: проблемы дефиниций и практики // Либерально-демократические ценности. 2021. Т. 5, № 4. С. 1–8.
- Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народа // Вопросы истории. 1990. № 7. С. 32–44.
- Каймаразов Г.Ш. Формирование социалистической интеллигенции на Северном Кавказе. М., 1988. 334 с.
- Карпов Ю.Ю. Рецензия на: Ингуши / отв. ред. М.С.-Г. Албогачиева, А.М. Мартазанов, Л.Т. Соловьева. М.: Наука, 2013. 510 с. // Этнографическое обозрение. № 1. 2016. С. 184–187.
- Мартиросиан Г.К. История Ингушии. Материалы. Орджоникидзе, 1933. 314 с.
- Нанаева Б.Б. Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт: вехи истории // Ингушетия в контексте научных проблем и перспектив изучения Кавказа: мат. Международ. науч. конф., посвященной 90-летию ингушского научно-исследовательского института. Магас, 2016. С. 51–55.
- Очерки истории Чечено-Ингушской АССР: в 2 т. / под ред. М.С. Тотоева. Грозный, 1972. Т. 2. 359 c.
- Пономарева З.И. Из истории Чечено-Ингушского республиканского краеведческого музея // Известия Чечено-Ингушского республиканского краеведческого музея: сб. статей. Вып. XI. Грозный, 1975. C. 3–17.
- Семенов Л.П. Государственный научный музей г. Владикавказа при Северо-Кавказском институте краеведения. Владикавказ, 1925. 26 c.
- Сигаури И.М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен: в 5 т. М., 2001. Т. 2. 372 с.
- Филькин В.И. Партийная организация Чечено-Ингушетии в годы борьбы за упрочение и развитие социалистического общества (1937 – июнь 1941 гг.). Грозный, 1963. 147 с.