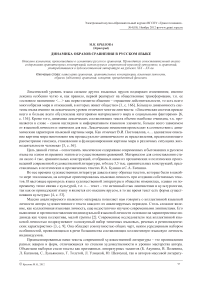Динамика образов сравнения в русском языке
Автор: Крылова Мария Николаевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 4 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
Описаны изменения, произошедшие в семантике русского сравнения. Проводится сопоставительный анализ содержания сравнительных конструкций, используемых современной языковой личностью, и сравнений, употреблявшихся в художественной литературе на рубеже XIX - XX вв.
Категория сравнения, сравнительные конструкции, языковая личность, образы (объекты) сравнения, концепт, прецедентный феномен
Короткий адрес: https://sciup.org/14821792
IDR: 14821792
Текст научной статьи Динамика образов сравнения в русском языке
Лексический уровень языка сильнее других языковых ярусов подвержен изменениям; именно лексика особенно чутко и, как правило, первой реагирует на общественные трансформации, т.к. ее «основное назначение <…> как первоэлемента общения – отражение действительности, то есть всего многообразия мира и отношений, в которых живет общество» [1, с. 166]. Большую динамичность системы языка именно на лексическом уровне отмечают многие лингвисты: «Лексическая система прежде всего и больше всего обусловлена категориями материального мира и социальными факторами» [6, с. 136]. Кроме того, динамика лексических составляющих текста обычно наиболее очевидна, т.к. проявляется в слове – самом наглядном и информативном языковом элементе, больше всего зависимом от языковой личности и значимом для нее. Лексические изменения происходят в соответствии с динамическим характером языковой картины мира. Как отмечает В.И. Постовалова, «… адекватное описание картины мира невозможно вне процессуально-динамического ее представления, предполагающего рассмотрение генезиса, становления и функционирования картины мира в различных ситуациях жизнедеятельности человека» [5, с. 56].
Цель данной статьи – сопоставить лексическое содержание современных и бытовавших в русском языке на одном из прежних этапов его существования сравнений. Материалом для сопоставления стали около 4 тыс. сравнительных конструкций, отобранных нами из прозаических и поэтических произведений современной художественной литературы, и более 3,5 тыс. сравнительных конструкций, представленных в поэтических и прозаических текстах И.А. Бунина и С.А. Есенина.
Во все времена художественная литература давала языку образцы текстов, которые были в какой-то мере эталонными, на которые ориентировалась языковая личность при создании собственных текстов. В настоящее время роль языка художественной литературы в обществе изменилась, однако он по-прежнему тесно связан с культурой, т.е. «… текст – это истинный стык лингвистики и культурологии, так как он принадлежит языку и является его высшим ярусом, в то же время текст есть форма существования культуры» [4, с. 53].
Массив анализируемого языкового материала позволяет нам говорить о коллективной языковой личности автора художественного текста каждого из анализируемых периодов. Столь сложное явление, как коллективная языковая личность, еще недостаточно изучено современными лингвистами. Его выявление и противопоставление индивидуальной языковой личности основано на характеристике индивида как члена коллектива, малой группы [2]. Современные исследователи под коллективной языковой личностью подразумевают «совокупный набор типичных языковых, речевых и речеповеденческих характеристик» [3, с. 9]. Она обладает совокупностью общих черт, неким усредненным набором особенностей, проявляющихся в речи большинства составляющих коллективную языковую личность индивидуумов.
Проанализированные нами тексты современной художественной литературы – это произведения разных жанров и форм, отличающиеся по степени художественности и уровню мастерства автора. Объектами выборки стали тексты как признанных литературных талантов (Б. Акунина, В. Пелевина, Л. Каганова, С. Лукьяненко, Т. Толстой, Л. Улицкой, Ю. Шевчука), так и авторов массовой литерату- ры (Т. Устиновой, В. Платовой, А. Марининой, Д. Донцовой, А. Бушкова и др.). Именно такая подборка, включающая различный по стилистике материал, способна представить наиболее точно коллективную языковую личность современного автора художественного текста.
Что касается обращения к творчеству И.А. Бунина и С.А. Есенина, то, по нашему мнению, именно эти два писателя, столь сильно отличающиеся по происхождению, образованию, политическим убеждениям, направленности творчества и в то же время столь близкие по любви к русскому языку и мастерскому владению им, демонстрируют различные грани коллективной языковой личности автора художественного текста рубежа XIX – XX вв.
Наиболее показательно при сравнении результатов количественное соотношение образов сравнений, в том числе относящихся к различным концептам (см. табл. 1).
Таблица 1
Количество объектов сравнения в языке современной и классической художественной литературы, %
|
Объекты сравнения |
Источник |
||
|
Современная художественная литература |
Классическая художественная литература |
||
|
Концепты |
«Вещь» |
24,2 |
20,2 |
|
«Человек» |
19 |
17,3 |
|
|
«Животное» |
22,4 |
15,5 |
|
|
«Растение» |
6,1 |
5 |
|
|
«Детство» |
4,5 |
2 |
|
|
«Вера» |
2 |
3,8 |
|
|
«Смерть» |
0,9 |
2,8 |
|
|
«Жизнь» |
0,3 |
1,9 |
|
|
«Дом» |
0,3 |
1,2 |
|
|
Прецедентные феномены |
8,2 |
0,5 |
|
|
Явление природы |
12 |
19,8 |
|
В употреблении большей части образов мы видим значительные количественные отличия. Исходя из них, разделим объекты сравнений на две группы (табл. 2).
Таблица 2
Количественное соотношение образов сравнения в русском языке разных периодов
|
Преобладающие образы сравнения |
|
|
в языке современной художественной литературы |
в языке художественной литературы рубежа XIX – XX вв. |
|
Концепты – «Вещь» – «Человек» – «Животное» – «Растение» – «Детство» Прецедентные феномены |
Явление природы Концепты – «Вера» – «Смерть» – «Жизнь» – «Дом» |
Первое, что обращает на себя внимание: те образы, которые связаны с предметным, материальным миром (концепты «Вещь», «Человек», «Животное», «Растение», прецедентные феномены), превалируют в языке современной литературы; ассоциирующиеся с духовным миром (концепты «Вера», «Смерть», «Жизнь») – в языке классической литературы. Данная закономерность не абсолютна, ее нарушают образы, относящиеся к понятию «Явление природы», преобладающие в языке классической литературы, и концепт «Детство», доминирующий в современном тексте. Впрочем, оба эти явления сложны по составу, включают как конкретные, так и отвлеченные понятия, поэтому их реализация не может быть серьезным показателем какой-либо тенденции.
Рассмотрим образы, чаще используемые современной языковой личностью. Объекты сопоставления, связанные с концептом «Вещь», встречаются в 20,2% сравнений классической литературы и в 24,2% – современной. Совершенно естественно, что наряду с количественными отличиями наблюдаются качественные расхождения. Многие из актуальных предметов, с которыми сравнивает что-либо современная языковая личность, невозможно представить в классической литературе: автомат, асфальт, бензопила, бетономешалка, боеголовка, бронежилет, атомный взрыв, виадук, компьютер, конструктор «Лего», крептонит и т. д. Данные культурные различия вполне ожидаемы, как, впрочем, предсказуемо такое культурное расхождение, как отсутствие в языке классической литературы и наличие в языке современной литературы вульгарных, просторечных образов. Современный автор не связан строгими моральными ограничениями, как его предшественник около века назад, и свободно оперирует в художественном тексте такими образами, как презерватив, дерьмо, унитаз и т.д.
В то же время наблюдаем поразительно похожие конструкции, свидетельствующие о преемственности культурной традиции, например: На бугре береза-свечка / В лунных перьях серебра (С. Есенин); В тонких ветках свечи-звезды (М. Фроловская, 13 лет). Остались актуальными такие образы, как четки, часы, чаша, флейта, окно, столб, стена, стрела, сеть и мн. др. Тем не менее и в использовании тех образов, которые одинаковы в сравнениях различных периодов, также отмечаются различия, указывающие на большую приземленность современных сопоставлений. Сравним, к примеру: …На рыжие ковры похожие леса… (И. Бунин) и Вильям понял, что его несут, подняв на плечо, будто старый ковер (Д. Казаков. Демоны Вальхаллы).
На наш взгляд, основное отличие в использовании при сравнении образов материальных предметов в языке литературы различных периодов состоит в том, что ранее они придавали описанию живописную точность, конкретность, ясность. Сейчас эта функция утратилась или видоизменилась в функцию овеществления окружающего мира, утверждение которой связано с материальностью нашего современного состояния, бесспорным превалированием безликого и предметного над живым и персонифицированным.
Образы, связанные с концептом «Человек», также более активно используются современной языковой личностью (19% по отношению к 17,3% таких сравнений в классической литературе). Как видим, количественные расхождения здесь менее значительны, однако культурные отличия также присутствуют. Не востребованы современным писателем такие объекты сравнения, как черница, пасынок, страж, шарманщик и др. И невозможно представить в литературе классического периода такие образы, как алкаш, бомж, нимфоманка, сперма, фаллос и под. Например: …Она сейчас была невменяема, …как нимфоманка, с которой слезли за миг до оргазма (С. Лукьяненко. Ночной Дозор).
В то же время есть группа неизменных ассоциаций: кровь, слезы, руки, глаза, вдова, гость и мн. др. Однако примеры с одинаковыми образами чаще всего звучат в языке разных периодов совсем по-разному, например: А кругом цветы лазоревы / Распускали волны пряные / И, как гости чужедальние, / Улыбались дню веселому (С. Есенин); И потом… мне кажется, если прошлое не врывается в жизнь человека, как непрошенный гость, которого уж не выдворишь обратно, то ни к чему ворошить его (Е. Маркова. Каприз фаворита).
Если превалирование среди образов сравнения современной литературы концептов «Вещь» и «Человек» вполне ожидаемо с учетом тех изменений в жизни, которые произошли за прошедшее время, то большее число образов из мира растений и животных, на первый взгляд, удивляет. Тем более что источники классической литературы, послужившие для выборки сравнений, содержат больше лирических текстов, а для Есенина оперирование образами растений и животных – один из общепризнанных признаков стиля, связанный с происхождением и приоритетами поэта.
Особенно часто современный автор использует в сравнениях зоонимы. Основную базу образов в подборке, связанной с животными, составляют змея, кошка, лошадь, волк, свинья, птица, зверь, обезья- на, саранча и т.д.; в подборке, связанной с растениями, – цветок, лилия, мак, дуб, яблоня, береза и др. То, что языковая личность в основном оперирует теми же образами, которые были популярны столетие назад, неудивительно и объясняется не только неизменным составом окружающего нас животного и растительного мира, но и устоявшейся в веках символикой. К примеру, символом легкости, красоты и невечности сущности была и остается порхающая бабочка: Как бабочка – я на костер / Лечу и огнен-ность целую (С. Есенин); Я давно с тревогой смотрю, как порхает, словно бабочка-лимонница, наша Ксения (В. Линдер. Ананасы в шампанском).
Кроме того, в лирике герой и природа, как правило, синкретичны, проникают друг в друга: А нам легко и весело, как птицам… (И. Бунин); И меня твои лебяжьи руки / Обвивали, словно два крыла (С. Есенин); Где же моя милая, птицей прилетай (из песни музыкальной группы «Уматурман»). По-прежнему актуально внимание к миру природы, осознание языковой личностью синкретизма человека и других живых существ на земле.
При этом совпадение большей части образов и некоторая общность символики отнюдь не исключают качественной непохожести. Отметим наблюдаемые различия.
В современном языке намного больше устойчивых сравнений с образами данных двух групп, например: Довольный как слон Вовчик восседал за штурвалом (О. Таругин. Тайна седьмого уровня); Меня родители действительно трясут, как грушу (С. Иванов. Свидание на заброшенной могиле). И это часто новые стереотипы, в языке Есенина и Бунина не отражавшиеся.
К сожалению, в языке современной литературы почти не нашлось места таким излюбленным есенинским образам, как черемуха, клен, верба ; любимым образам И. Бунина олень, колос, лилия и др. Данные образы делали сравнения классиков литературы более романтичными, придавали им, как правило, высокую стилистическую окраску: Все равно любимая отцветет черемухой (С. Есенин); Но степь поет. Как колос налитой, / Полна душа (И. Бунин). Клен был любимым деревом Есенина, с которым поэт соотносил себя: он как клен, вросший корнями в русскую землю, ставший ее частью, простой, незамысловатый, но устойчивый: Сам себе казался я таким же кленом, / Только не опавшим, а вовсю зеленым .
Расхождения существуют также за счет таких просторечных объектов, как глист, гнида, кобель, падаль, стрекозёл , встречающихся, кстати, только в рамках концепта «Животное»: Вас давить надо, как гнид… (Л. Соболева. Будет ночь – она вернется…). Помимо сравнений с данными образами, в современном языке просторечными, вульгарными являются сопоставления со многими названиями животных: мерин, мартышка, лось, кобыла, кляча, индюк и т.д. Изолированно употребленные, они не имеют сниженной окраски, а в составе сравнительной конструкции служат чаще всего для создания угроз, ругательств, например: А вообще учти: позволишь себе еще раз проехаться по моему адресу, даже вскользь, – раздавлю, как мокрицу (В. Платова. Эшафот забвения).
Кроме того, в современной литературе объекты сравнения детализированы, активнее используются видовые наименования, к примеру, названия пород собак: мопс, левретка, шарпей, доберман-пинчер, фокстерьер и т.д. Например: Седой парик сидел на нем криво, а морщинистое лицо напоминало мордочку разгневанного мопса… (Д. Казаков. Демоны Вальхаллы).
Образы сравнения, связанные с концептом «Детство», встречаются в 4,5% сравнений, отобранных нами из современной литературы, и только в 2% – классической. Если предполагать, что концепт «Детство» показывает лирический взгляд на мир, способствуя при сопоставлении романтизации образа, то данное количественное соотношение кажется неожиданным. Анализ же качественного состава рассматриваемых массивов сравнительных конструкций позволяет объяснить, почему сравнений с объектами, связанными с детством, больше именно в современном языке.
Современная языковая личность обращается к концепту «Детство» совсем не с теми намерениями, с какими это делала языковая личность прошлого. Ранее детство символизировало чистоту, невинность, целомудрие, наивность, доверчивость, повышенную эмоциональность. У И. Бунина и С. Есенина встречаем удивительно похожие примеры, связанные с концептом «Детство»: Мы в радости доверчивы, как дети (И. Бунин); Все мы порой, как дети, / Часто смеемся и плачем (С. Есенин). Сейчас же, при сохранении в некоторой степени прежней символичности, причины обращения к миру детства при построении ассоциаций стали иными, новыми, не наблюдаемыми в языке русской классической литературы:
– ощущение инфантилизма окружающих и обвинение их в этом;
– отрицание собственного детства как поры беспомощности, наивности;
– ощущение себя во взрослой жизни по-детски незащищенным, обиженным и т. д.
Сравнения с ребенком в современном языке часто выглядят как обвинения – в наивности, непрактичности, инфантилизме, неуверенности и страхах: Ася, нельзя же так! Ты как ребенок, ей-богу ! (А. Маринина. Седьмая жертва). Быть «как ребенок» в современном практичном мире стало стыдно, ведь это значит не уметь противостоять трудностям, слишком ярко проявлять свои чувства, заниматься только тем, что тебе интересно, не уметь зарабатывать деньги, наконец.
Кроме того, в современном языке у концепта «Детство» появляется символика нового времени. Ребенка любой может провести, и его образ уже становится символом легкого обмана: Развел. Как детей, – похвалил Рахматуллин (А. Терехов. Каменный мост). Ребенок часто что-то говорит или делает невпопад, и вот образ ребенка становится символом неловкости: На меня взглянули, словно на ребенка, задавшего неудобный вопрос во взрослой компании (С. Лукьяненко, В. Васильев. Дневной Дозор). Дети верят взрослым и настроены на подчинение, и образ ребенка становится символом манипулирования поведением других людей: Фанатики полезны и удобны, ими легко управлять, как детьми (Н. Леонов. Коррупция). У детей мало знаний и опыта, и образ ребенка превращается в символ неосведомленности, непонимания: Колонии, Паша, английские колонии, империализм и чудовищная эксплуатация. Ты как ребенок, Павел, просто удивительно (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
Отрицание собственного детства как поры беспомощности, наивности проявляется в появлении у языковой личности при создании сравнения образов униженных, подавленных окружающими, несправедливо наказанных детей, например: Сознание возвращалось медленно и неохотно, как ребенок, бредущий домой после властного оклика матери (Д. Казаков. Демоны Вальхаллы). В то же время сравнения с ребенком часто используются, если надо описать внешние элементы, наружность или поведение человека: …спросил он, по-детски надув губы (М. Котова. Узор судьбы); Очки уже сняла, глаза оказались небесно-голубые, невинные, как у младенца (Ю. Никитин. Зачело-век). При этом «детское» поведение, «детская» реакция на события часто выглядят неожиданно и упоминаются для создания контраста с общим поведением человека: Холодный, расчетливый бизнесмен… перепугался, как ребенок (Д. Донцова. Фиговый листочек от кутюр).
Однако и в современной литературе наблюдается, пусть в небольшом количестве сравнений, сохранение прежней символики детства, отношение к нему как к светлому времени, когда можно было беспричинно смеяться и плакать, совершать необдуманные поступки и с замиранием сердца ждать в будущем чего-то хорошего. Например: Яра просияла, едва, как ребенок, не захлопала в ладоши (Ю. Никитин. Стоунхендж); Протянув открытку проходящей мимо Любке, я запрыгала, как ребенок (Ю. Шилова. Наказание красотой) и т.д.
Сравнения с группой образов, обозначающих прецедентные феномены, в современном языке занимают особое место. Для языковой личности сейчас очень важно соотнести описываемое с интертекстовыми реалиями, служащими для придания высказыванию авторитетности, веса, значимости. Учитывая количественное соотношение (в языке поэзии и прозы И. Бунина и С. Есенина сравнений с прецедентными феноменами всего около 0,5%, а в языке современной литературы – 8,2%), употребление данной группы образов поистине является знаком времени. В этой связи нам представляется интересным рассмотреть те прецедентные феномены, которые встречаются в классической литературе. Их можно разделить на несколько групп.
-
1. Имена и названия из сферы религии ( Иисус, Библия, Саваоф, Эдем и др.), служащих еще одним признаком внимания авторов к вопросам веры: Это ты, о сын мой, смотришь Иисусом ! (С. Есенин).
-
2. Фольклорные тексты и имена, использование которых роднит творчество авторов с народным творчеством: В детстве я любил вас безотчетно, – / Сказкою вы нежною мерцали (И. Бунин); Край ты, край мой, родимый, / Вечный пахарь и вой, / Словно Вольга под ивой, / Ты поник головой (С. Есенин).
-
3. Имена писателей и поэтов: Саади, Байрон и др., посредством упоминания которых в творчестве автора реализуется связь с фондом мировой литературы: Шепот ли, шорох иль шелест – / Нежность, как песни Саади (С. Есенин).
-
4. Прецеденты из сферы искусства, реализующие связь с фондом мировой культуры: Вот сплю в лачуге закопченной, / А он сравнит меня с Мадонной… (И. Бунин).
В современном языке гораздо больше развита интертекстуальность, распространены аллюзии и отсылки к самым разнообразным уже известным говорящему реалиям. В первую очередь больше сам набор прецедентных реалий: художественные фильмы, литературные тексты, телепередачи, исторические факты и т.д. Современный писатель, отражая распространенную в языке интертекстуальность, часто вводит прецедентные феномены в речь персонажей, например: Да если на осла такие деньги потратить, он станет популярен, как Ален Делон! (Д. Донцова. Фиговый листочек от кутюр). Кроме того, прецедентные феномены используются авторами для описания внешности: Русые волосы, голубые глаза, широкое лицо и мощное сложение делали его похожим на былинного богатыря из детской киносказки (П. Корнев. Скользкий). Реже с помощью прецедентов авторы дают характеристики и оценку явлений: Глядя на него (дом. – М. К. ) , я отчего-то вспоминал «Вишневый сад» Чехова. Наверное, у нас приключилось что-то похожее (А. Щупов. Мессия).
Можно утверждать, что для современной языковой личности гораздо важнее апелляция к уже знакомому, установление связи с авторитетными текстами, высказываниями, именами и ситуациями. Обилие подобных сравнений в современной художественной литературе указывает как на желание автора установить более тесный контакт с реципиентом посредством общего житейского, филологического и исторического опыта, так и на неуверенность, неумение подбирать аргументы (в данном случае образы) самостоятельно и желание в связи с этим воспользоваться уже имеющимися в культурном фонде ассоциациями.
Итак, анализ образов, к которым чаще прибегает современная языковая личность по сравнению с языковой личностью прошлого убеждает нас в том, что «выбор сравнения обусловлен рамками окружающего мира, культуры и ситуацией общения, специфическими чертами коммуникантов» [4, с. 192].
Понимание лексического значения – не главное при работе со словом. Г.М. Шипицына отмечает: «Значение слова имеет также и такие дополнительные компоненты, которые отражают историко-литературную, ментально-этническую и социальную среду его бытования» [7, с. 29]. Мы убедились в этом, анализируя лексическую составляющую сравнительных конструкций в русской литературе разных периодов.
Несмотря на то, что «культурная информация языковых знаков носит по преимуществу имплицитный характер, она как бы скрывается за языковыми значениями» [4, с. 32], нам удалось выявить следующее. Коллективная языковая личность прошлого, обращаясь к тому или иному образу сравнения, стремилась создать красивую и гармоничную картину, придать описанию трагичность или романтизм, тонко и детализированно передать чувство. Современный писатель, выбирая образ сравнения, использует его чаще с прикладной целью, чтобы более точно и определенно выразить мысль или придать высказыванию юмористический оттенок. В то же время есть немало общих образов, использование которых символизирует единство, цельность русского языка на разных этапах его существования.
Список литературы Динамика образов сравнения в русском языке
- Казак Е.А. Заимствованная лексика как отражение культурных взаимодействий//Язык и культура. Сборник обзоров. М.: ИНИОН АН СССР, 1987. С. 164-173.
- Крысин Л.П. О речевом поведении человека в малых социальных общностях (постановка вопроса)//Язык и личность/отв. ред. Д.Н. Шмелев. М.: Наука, 1989. С. 96-106.
- Мамаева С.В. Речевой портрет школьника 5-7 классов: автореф. дис. канд. филол. наук. Кемерово, 2007.
- Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Академия, 2004.
- Постовалова В.И. Картины мира в жизнедеятельности человека//Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира/Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова [и др.]. М.: Наука, 1988. С. 8-69.
- Уфимцева А.А. Роль лексики в познании человеком действительности и в формировании языковой картины мира//Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира/Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова [и др.]. М.: Наука, 1988. С. 108-140.
- Шипицына Г.М. О преподавании русского языка в национальной школе//Рус. речь. 2008. № 2. С. 26-30.