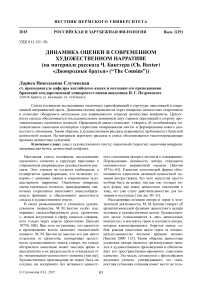Динамика оценки в современном художественном нарративе (на материале рассказа Ч. Бакстера (Ch. Baxter) «Двоюродные братья» ("The cousins"))
Автор: Случевская Лариса Николаевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию оценочных трансформаций в структуре персонажей в современной американской прозе. Динамика оценки проявляется через инверсию ценностных стереотипов и позволяет обнаружить актуальные для американского социума ценностные конфликты. Целостность смысла обеспечивается последовательным движением двух главных персонажей в сторону противоположных оценочных полюсов. Проведенный анализ позволяет говорить об ослабевающем положительном оценочном потенциале стереотипа «американская мечта» и формировании нового ценностного отношения. Таким образом, в художественном рассказе вскрывается проблемность базисной ценностной модели. На материале короткого рассказа в статье обосновывается текстопорождающая функция ценностных суждений.
Смысл художественного текста, оценочный стереотип, оценочная инверсия, американская мечта, ценностный конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/14729371
IDR: 14729371 | УДК: 811.111-26
Текст научной статьи Динамика оценки в современном художественном нарративе (на материале рассказа Ч. Бакстера (Ch. Baxter) «Двоюродные братья» ("The cousins"))
Настоящая статья посвящена исследованию оценочного элемента в структуре персонажа в современном американском художественном рассказе. Этот элемент не остается стабильным, а подвергается трансформации, что позволяет говорить о динамике оценки в современном художественном нарративе. Оценочная инверсия, смена оценочных полюсов, трансформации оценочных стереотипов выполняют смыслообразующую функцию и обеспечивают целостность смысла в художественном тексте.
В своих размышлениях о словесном художественном творчестве М. М. Бахтин особо подчеркивал смыслообразующую роль хронотопа: «...всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов» [Бахтин 1975б: 406]. При этом он указывал, что хронотоп в произведении всегда включает «ценностный момент». М. М. Бахтин не мыслил его как нечто отдельное от хронотопа, подчеркивал целостность художественного текста, говоря, что только абстрактное мышление может мыслить время и пространство в их раздельности и отвлекаться от их эмоционально-ценностного момента [там же]. Художественное произведение не может быть ни создано, ни воспринято без активного ценност- текста; оценочный стереотип; оценочная инверсия;
ного отношения автора и читателя к содержанию. Порождающая активность автора становится «активностью выраженной оценки» [Бахтин 1975а: 65]. Единство эстетической формы обеспечивается единством активной ценностной позиции автора-творца, без чего искусства просто вообще быть не может, так как оно «создает новую форму как новое ценностное отношение к тому, что уже стало действительностью для познания и поступка» [там же: 30–31].
Рассматривая позиции автора и героя в эстетической деятельности, М. М. Бахтин говорит об архитектонической функции ценностного центра человека в художественном целом. Художественное целое осмысливается в двух ценностных контекстах: в контексте героя и контексте автора, которые взаимопроникают, борются между собой, рождая смысловое целое героя «в эмоционально-ценностно весомом времени жизни» [Бахтин 2000: 133]. Таким образом, ценностная установка автора является организующим началом в художественном произведении и обеспечивает его пространственно-временное смысловое единство. Эта мысль согласуется с философским видением ученого, утверждавшего, что «ценностная установка сознания имеет место не толь- ко в поступке в собственном смысле, но и в каждом переживании и даже ощущении простейшем: жить – значит занимать ценностную позицию в каждом моменте жизни, ценностно устанавливаться» [Бахтин 2000: 206].
Можно сказать, что М. М. Бахтин программно заявил о смыслообразующей функции оценочно-сти в тексте, но механизмы ее работы в художественном нарративе до сих пор не вскрыты. Исследования в данной области тем более актуальны, чем более признается учеными роль оценки в работе сознания вообще. Перцепция и оценка неотделимы друг от друга. Оценка – своего рода мостик между аффектами и когницией [Malrieu 1999: 70]. Ж. П. Малрье предлагает исследовать идеологический дискурс с точки зрения идеологической последовательности, суть которой состоит в использовании оценочных моделей, отражающих совместимость/несовместимость определенных ценностей с той или иной идеологией. Его программная книга носит многообещающее название – «Evaluative Semantics» и заявляет о необходимости исследования смысловых эффектов оценочности на уровне дискурса, используя для этого стратегии моделирования оценочных интерпретаций как динамических систем [ibid.].
Еще представители классического прагматизма Ч. Пирс, У. Джеймс, Дж. Мид, Дж. Дьюи подчеркивали тот факт, что опыт никогда не может быть нейтральным, «it comes to us screaming with values» [Putnam 2003: 103]. Американский философ Х. Патнэм опровергает дихотомию факта и оценки. Он утверждает, что оценка (valuation) и дескрипция взаимозависимы и не могут быть разделены: «...vocabulary consists almost entirely of 'entangled' concepts, concepts that cannot be simply factored into a 'descriptive part' and an 'evaluative part'» [Putnam 2003: 62].
Такой подход к оценочности в языке коренным образом отличается от рассмотрения оценки как особого аспекта языковых выражений, который как бы накладывается на их дескриптивное содержание [Вольф 2002]. Недостаточным кажется и изучение только оценочных предикатов, определений, номинаций [Арутюнова 1999].
В философии ценности воспринимаются как отношения между объектом и субъектом, которые образуют ценностное отношение, существующее в социокультурной среде, которая и влияет на ценностное отношение, и сама подвергается изменению под его воздействием [Каган 1997: 55]. Другими словами, ценность есть значение объекта для субъекта, а оценка – эмоциональноинтеллектуальное выявление этого значения субъектом [там же: 68]. Неразрывность культуры и ценностных отношений подчеркивается уче- ным термином «аксиосфера культуры» [там же].
До недавнего времени изучением ценностей и их роли в человеческой деятельности занимались, главным образом, антропологи, социологи, психологи, экономисты. Так, Клайд Клакхон определяет ценности как концепции желаемого («conceptions of the desirable»). При этом под желаемым он понимает не столько то, чего люди хотят, а то, что они должны хотеть («ought to want»). Таким образом, он имеет в виду ценностные ориентиры («value orientations»), включающие в себя и идею желаемого, и представления о мире [Graeber 2001: 3–5].
Робин М. Уильямс подчеркивает, что ценности соединяют в себе когнитивные, аффективные и директивные аспекты и служат в качестве критериев выбора определенного поведения. Они одновременно являются компонентами психологических процессов, социального взаимодействия и культурного моделирования. Ценности не есть нечто врожденное, они приобретаются в опыте – через боль и удовольствие, удовлетворение и лишение, любовь и ненависть, достижение цели и разочарования, провалы [Williams 1979].
Милтон Рокич основывает свое определение ценностей на связи ценностей и потребностей: «...values may be conceived as cognitive representations of underlying needs...» [Rokeach 1979: 48]. Он, как и Уильямс, указывает на директивную функцию ценностей, ориентирующую людей в их деятельности по удовлетворению своих потребностей таким образом, чтобы при этом сохранить или, насколько это возможно, повысить свою самооценку [там же].
В традициях Клакхона, Уильямса и Рокича занимается исследованием ценностей Ш. Шварц: «The Values Theory defines values as desirable, trans-situational goals, varying in importance, that serve as guiding principles in people's lives» [Schwartz: 1].
Итак, ценности – это смыслообразующие основания человеческого бытия [Новейший философский словарь 2003: 25]. А что для человека бытие? «Язык и есть тот мир, в котором человек становится человеком, мир, самое существование которого без человека невозможно, потому что человек и мир связаны неразрывной цепью взаимно обусловленных состояний» [Кравченко 2013: 75].
Исходя из постулатов биокогнитивной философии языка язык есть деятельность ориентирующего характера, функция языка как знаковой системы заключается в структурировании мира, значение языковых знаков имеет опытную природу, функция языка как деятельности состоит в адаптации к среде [Кравченко 2013: 183]. Если языковая деятельность человека рассматривается как определенные структуры поведения в когнитивной области взаимодействий, носящих ориентирующий характер и служащих осуществлению биологической функции адаптации организма к среде с последующим переходом к управлению ею [Кравченко 2013: 227], то эта деятельность не может не быть оценочной. Все, что имеет значение, обладает и ценностью. Ничего нейтрального в языке нет.
В высказывании, тексте, однако, мы имеем дело с оценкой – формой существования ценности [Виноградов 2007: 265]. С. Н. Виноградов считает перспективным в научном плане подход, когда лингвист, подобно палеонтологу, восстанавливающему облик давно вымершего животного по незначительным ископаемым находкам, восстанавливает системы ценностей на основе их «следов», хранящихся в текстовых результатах человеческой деятельности [там же: 268]. Все же нам представляется, что речь должна идти не о «следах», а о метафорических оценочных моделях и об их словесной реализации в тексте. Применительно к нашему исследованию внимание акцентируется на вербальных маркерах оценочных стереотипов и механизмах формирования отрицательной оценки к этим стереотипам и их носителям, что позволяет проследить ценностные конфликты в современном обществе и показать смыслообразующую функцию оценки в художественном нарративе.
В рассматриваемом рассказе «Двоюродные братья» автор отталкивается от двух положительных оценочных стереотипов. С одной стороны, это деловая/финансовая успешность как критерий положительной оценки, с другой – чело-вечность/альтруизм как положительный идеал.
Уже в первом абзаце представлено мнение человека, который сделал состояние на приборе для воздушной навигации:
«…my grandfather believed that the rich were rewarded for their merits and the poor deserved what they got» [Baxter 2010: 42] 1.
Это мнение вполне в духе кальвинизма с его догматом о предопределенности: «...часть людей предопределена к блаженству, остальные же прокляты навек» [Вебер 1990: 142]. Широко распространена точка зрения, что у колыбели современного делового человека стоял аскетический протестантизм. Именно в странах с протестантским прошлым сформировался идеал делового человека. Эта концепция восходит к Максу Веберу, который усматривал определенную связь между современным хозяйственным «этосом» и рациональной этикой аскетического протестантизма, согласно которой неутомимая деятельность в рамках своей профессии угодна Богу и является наилучшим средством для обретения уверенно- сти в своем избранничестве. Труд и интенсивное предпринимательство рассматривались как долг перед Богом [там же: 56, 149, 190, 204]. Рациональное жизненное поведение на основе идеи профессионального призвания – конституционный компонент не только «духа капитализма», но и всей современной западной культуры [там же: 205].
Прошло время, изменился мир, «выветрились те протестантские догмы, которые давали людям XVII в. такую сильную мотивацию работы над собой, но выработанные качества были превращены в нормы и отложились в культуре» [Чеснокова 2010: 97]. Таким образом, и сегодня достижение успеха в рамках своей профессии, ведущее к материальному благополучию, считается критерием положительной оценки.
Каковы атрибуты этого материального благополучия, своего рода символы американской мечты? В первую очередь, это "the white picket fence", метонимически представляющий собственный дом в пригороде, тщательно подстриженная лужайка, машина или две. В этом доме живет семья с двумя-тремя детьми, ради которых и трудятся родители, зарабатывая достаточно для того, чтобы оплатить их обучение в колледже, дабы они жили еще лучше своих родителей, и т. д. Эту сторону американской мечты как раз и олицетворяет рассказчик.
Однако, если судить по некоторым публикациям в Интернете, понимание американской мечты как материального благополучия, кажется, уступает место более идеализированной модели. Так, в 2007 г. журнал «Forbes» задал вопрос «What is the American Dream?» 60 человекам, которых он представил как «great achievers». Лишь десятая часть ответов содержала прямое упоминание тех или иных атрибутов материального или профессионального успеха. Половина респондентов связывала американскую мечту с такими ценностями, как «freedom» и «equal opportunity» [http://www.forbes.com/2007/03/20/american-dream-oped-cx_de_dream0307_0322dream_land.html]. Вслед за публикацией этих мнений последовал ряд статей, свидетельствующих как раз об обратном, о невозможности реализации американской мечты всеми и о ее внутренней конфликтности. Например, Элизабет Ивз (Elisabeth Eaves) в статье «Be All That You Can Be – And Hurry Up About It!» говорит о мифе равных возможностей и психологических последствиях веры в то, что каждый может стать тем, кем захочет. (Обратим внимание на дословное совпадение: «We teach our children that they can be anything they want to be» у Э. Ивз и «...I can be anything I want to be» (44) в устах одного из героев анализируемого рассказа.) Если человек верит в то, что успех за- висит только от него самого, то и ответственность за провал он несет только сам, а это тяжкое бремя. [http://www.forbes.com/2007/10/09/success-stress-opportunity-ent-dream1007-cx_ee_1009misery.html].
Исследование, проведенное компанией MetLife в сентябре–октябре 2011 г., указывает на появление новой американской мечты – «The Do-It-Yourself Dream». Результаты исследования подтверждают, что стремление реализовать американскую мечту по-прежнему актуально, особенно у поколения Y, но пути ее достижения меняются. Самореализация (personal fulfillment) становится важнее финансового успеха как такового. [https://www.metlife.com/assets/cao/gbms/stu dies/metlife-2011-american-dream-report.pdf] .
В данном контексте вызывает интерес и манифест Кэрол Гайда (Karol Gajda) «The American Dream is Dead (Long Live the American Dream!)», где во главу угла по-прежнему ставятся такие ценности, как «opportunity, freedom, comfort, prosperity», но они переосмысливаются с позиций минимализма и здравого смысла [http://www.ridiculouslyextraordinary.com/SpecialO ps/AmericanDreamIsDead.pdf] . Автор манифеста не ограничилась собственными соображениями, а провела опрос среди людей, ведущих активную деятельность в Интернете. Вот лишь некоторые мнения.
«The American Dream has been corrupted over the years by being equated with money and consum-erism». (Corbett Barr)
«In many ways, I'd call the American Dream a lie... wait, an imposter». (Nathan Hangen)
«Honestly, to me I feel like the 'American Dream' has been perverted and become a commodity: the white picket fence, 2.5 children, and a big SUV in the driveway». (Cody McKibben)
И, наконец, мнение, которое, в нашем понимании, могло бы стать эпиграфом к тому рассказу, который анализируется в данной статье.
Scrinivas Rao: «The American Dream is really a thing of the past. In my mind, the American Dream is based on something that somebody has created for you... The truth is the American Dream perpetuates the social matrix. That's why I'm spending my life in pursuit of a much more noble cause, something I call The Human Dream. The Human Dream to me is about living life on your own terms and doing nothing based on the approval of others» [http://www.ridiculouslyextraordinary.com/the- american-dream-is-dead/ ].
Таким образом, американская мечта более не является чем-то монолитным, отношение к ней в обществе неоднозначное, а, значит, ее достиже- ние уже не может служить бесспорным источником положительной оценки.
Теперь вернемся к анализу рассказа.
Символом успеха в начале рассказа выступает дорогой ресторан, где встречаются двоюродные братья Бенджамин (рассказчик) и Брэнтфорд. У ресторана особая атмосфера: «…the cost of the entrees was so high that a respectful noonday hush hung over its skeletal postmodern interior» (42).
Посетители – «oligarchs with monogrammed shirt cuffs», а ассортимент вин представлен на «velvety pages set in a stainless-steel three-ring binder».
В атмосферу роскоши Брэнтфорд уже не вписывается, хотя именно он выбрал этот ресторан: «…my cousin looked like a mayor of a ruined city» (42).
«Appearances mattered a great deal to Brantford, but his own were on a gradual slide. His face had a permanent alchoholic flush ... Although he dressed well in flannel trousers and cordovan shoes, you could see the tell-tale food stains on his shirt, and the expression underneath his blond mustache had something subtly wrong about it - he smiled with a strangely discouraged and stale affability» (42– 43).
Контраст создается с самого начала, когда говорится, что Брэнтфорд был похож на мэра, но мэра разрушенного города. Все, чем характеризуется Брэнтфорд, можно отнести либо к одному, либо к другому семантическому полю. Роскошь ресторана, привычка носить добротную дорогую одежду, внимание к внешней стороне жизни вполне согласуются с образом мэра крупного города (city!), а румянец алкоголика, пятна от еды на рубашке, искусственная любезность – с разрушением. Все это указывает на противоречие между тем, кем Брэтфорд хотел бы казаться, и тем, кто он есть на самом деле.
Он не работает, но утверждает: «...I can be anything I want to be» (44). Это клише, один из постулатов общества равных возможностей, что-то усвоенное с детства, повторяемое почти автоматически. Каждый может все, если захочет, дайте только шанс...
Таким образом, в начале рассказа источником оценочности служит ценностный стереотип общественного и финансового успеха. Брэнтфорд не вписывается в этот стереотип, в отличие от рассказчика, который на момент повествования является партнером в юридической фирме, имеет дом, жену, детей. Он типичный представитель среднего класса, обеспечивающий благополучие своей семьи.
Тем не менее оценка Брэнтфорда не является абсолютно отрицательной. Его образ окрашен негативно только в свете вышеупомянутого сте- реотипа успеха. Вот другая оценка, которую ему дает рассказчик:
«I had always seen in him some better qualities than those I actually possessed. For example, he was one of those people who always make you happier the moment you see them» (43).
К тому же у Брэнтфорда есть особый дар – лечить животных, что тоже располагает к нему читателя, особенно поведение самих животных:
Его двоюродный брат пытается помочь ему встроиться в общепринятые рамки и советует пойти в ветеринарный институт, чему Брэтфорд категорически противится по двум причинам: он потеряет свой дар, если сделает из него профессию, и у него нет силы воли для этого:
«'Willpower is not my strong suit. The world runs on willpower'', he said, as if perplexed» (44).
Две оценки конфликтуют и в душе рассказчика: он ценит брата за лучшие качества, но и осуждает за поведение, которое не соответствует общепринятому:
«When someone begins to carry on as my cousin did, I'm never sure what to say. Tact is required. As a teenager, Brantford had told me that he aspired to be a concert pianist, and I was the one who had to remind him that he wasn't a musician and didn't play the piano. But Brantford had seen a fiery angel somewhere in the sky and thought it might descend on him. I hate those angels» (44).
Таким образом, в экспозиции рассказа задается оценочный конфликт. Брэнтфорд – добрый, приятный в общении человек, обладает даром лечить животных, что вызывает симпатию. Но доминантной является отрицательная оценка, связанная с несоответствием его поведения общепринятым нормам, согласно которым человек должен иметь профессию и стремиться достичь в ней успеха. Выразителем оценки выступает его брат, который дает ее как носитель общественного мнения, что подтверждается словами матери Брэнтфорда:
«...he still doesn't have a clue what to do with himself. Animals all over the place, but no job... I suppose it's my fault. They 'll blame me» (53).
Cледующий структурный элемент рассказа – воспоминания Бенджамина о своей молодости – очень важен, поскольку именно в этой части происходит оценочный сдвиг. Мы видим рассказчика в качестве «aspiring actor», который работает официантом в ожидании своего большого шанса. Нельзя не провести параллель между ним и Брэнтфордом: «aspiring actor» – «aspired to be a concert pianist». Амбиции их молодости схожи. Однако нет никаких данных о том, есть ли у рассказчика способности к актерскому поприщу, зато есть факты, говорящие о его конформизме, желании подстроиться под нужный тон и, видимо, отсутствии собственного мнения. Ключом к пониманию этого является его отношение к вечеринке, куда он приглашает свою подругу Джульетту (она станет его женой):
«You could easily commit an error in tone in those parties. You'd expose yourself as a hayseed if you were too sincere about anything. There was an Iron Law of Irony at Freddy's parties...» (46).
Более того, он обращается к Джульетте с просьбой: «It's like this. Those people are clever. You know, it's one of those uptown crowds. So what I am asking is... do you think you could be clever tonight, please? As a favor to me? I know you can be like that. You can be funny... I've seen you sparkle. So could you be amusing?» (46–47).
Рассказчик как бы заявляет свое кредо: «Здесь принято так и веди себя соответственно!» Он не очень умен, так как принимает ироническое отношение ко всему за чистую монету, считает себя вправе критиковать известных поэтов и драматургов и вдруг получает от одного из гостей, поэта, лауреата Пулицеровской премии, оплеуху в виде слов «You are the scum of the Earth», повторенных дважды. Это поворотный пункт в оценочной структуре рассказа. Что делает рассказчик? В полнейшей растерянности и смущении бежит с вечеринки, не найдя Джульетту.
Дальше – хуже. Он оказывается на одной из станций метро, все еще держа стакан с пивом. На платформе только он и какой-то странный тип, который просит у него пива, отпивает, а потом мочится в этот стакан и отдает его Бенджамину. Он ставит стакан на платформу и бьет несчастного по лицу. Тот падает и ползет на четвереньках к рельсам, а рассказчик, слыша звук приближающегося поезда, уходит «with the studied calm of an accomplished actor». Потом возвращается «conscience-crippled and heart-sick». Он никого не видит на платформе. В следующие несколько дней он ищет в газетах сообщения о происшествиях в метро, но ничего не находит.
Автор не дает натуралистических деталей убийства. Когда Бенджамин возвращается в метро, его встречает пустота. Поэтому убийства, может быть, и не было. Однако важнее психологическая составляющая. Рассказчик способен убить в порыве гнева и раздражения. Пожалуй, эпизод в метро следует рассматривать метафорически, тем более что мотив убийства рефреном проходит по всему рассказу.
В самом начале Брэнтфорд говорит своему кузену: «Sometimes at night I have the feeling that I've murdered somebody. Someone's dead. Only I don't know who or what, or when I did it. I must've killed somebody. I am sure of it» (43). Через неко- торое время он снова повторяет: «Anyhow, would you please explain to me why it feels as if I've committed a murder?» (44). Ретроспективный эпизод спровоцирован именнно этими словами Брэнт-форда, как и объясняет сам рассказчик: «And I wouldn't have thought of my days as an actor if it weren't for my cousin Brantford's having told me twenty years later over lunch in an expensive restaurant that he felt as if he had killed someone, and if my cousin and I hadn't had a kind of solidarity» (51).
И снова, при встрече Бенджамина с матерью Брэнтфорда, звучит тот же мотив: «I told her I'd had lunch with him and that he'd said he felt as if he had killed somebody» (52).
И, наконец, реальная смерть – смерть Брэнт-форда под колесами такси.
Возможно, следует рассматривать слова Брэнтфорда как индикатор его роли в повествовании. В иносказательном смысле он – совесть рассказчика. Их схожесть подчеркивается многочисленными маркерами: «a kind of solidarity» (повторяется дважды), «oddly similar», «look alike», «the same cheeful scowl». Брэнтфорд, по словам рассказчика, обладает лучшими качествами. Бенджамин говорит: «...he was almost a model for me...» (54).
Однако необходимо вернуться немного назад и посмотреть, чем заканчиваются воспоминания рассказчика. Он переключает внимание читателя со своих нравственных недостатков на свое положение в обществе двадцать лет спустя: «a partner in the firm of Wilwersheid and Lampe», «no longer an inhabitant of New York», «a family man». И то, что случилось с ним прежде, – «a distant story». Вроде бы наметившийся минус в его оценке снова меняется на плюс. Но это только кажущееся движение, потому что во второй части рассказа оценочные полюса меняются местами.
Основными оценочными средствами по отношению к рассказчику выступают его суждения о кузене и чувства, вызванные его смертью.
Брэнтфорд погиб на углу Парк-Авеню и 82-й улицы. Рассказчик замечает по этому поводу: «If he couldn't live in that neighborhood, he could at least die there» (53). Звучит саркастически, так как на Парк-Авеню на Манхэттене расположены дома, квартиры в которых могут позволить себе только весьма состоятельные люди.
Бенджамин задается вопросом, не было ли это самоубийством. Один из свидетелей видел, что он бросился спасать собаку. Это вполне в духе Брэнтфорда и могло бы быть правдой. Но рассказчик склонен все же думать о самоубийстве:
«What Brantford had expected from life and what it had actually given him must have been so distinct and so dissonant that he probably felt his dignity dropping away little by little until he wasn't himself anymore. He didn't seem to be anybody and he had no resources of humility to help turn that nothingness into a refuge... I think he must have been quietly panic-stricken, him and his animals» (54).
На момент смерти кузена Бенджамин с ним практически не общался. Он оправдывается перед Камиллой, молодой женщиной, с которой Брэнтфорд жил последние 5 лет, матерью его сына, тем, что его не приглашали. Но вдруг прорывается истинная причина такого поведения: «Something happened to him... He turned into something he hadn't been. Maybe that was it. Being poor» (55).
Итак, быть бедным плохо. Быть бедным достойно порицания. Осознание этого заставляет человека испытывать комплекс неполноценности, заставляет его страдать и испытывать глубокое чувство унижения, что даже может привести его к самоубийству. Очевидно, что это точка зрения рассказчика, которой противопоставлена точка зрения Камиллы: «Oh... poor . Well. We liked being poor. It was sort of Buddhist... We lived as a family... And I loved him. He was a sweetie, and very devoted to me and Robert and his animals... He had a very old soul. He wasn't a suicide, if that's what you're thinking» (55).
Cлова Камиллы являются ключом к пониманию личности Брэнтфорда. Рассказчик, скорее всего, ошибается, приписывая ему те эмоции, которые он, возможно, испытывал бы на его месте. "He had a very old soul" – знак того, что он другой, "reminiscent of a past era" [Webster's 1993: 1569]. Он не вписывается в общество, где одной из главных ценностей является финансовый успех. Но читатель испытывает симпатию именно к Брэнтфорду за то, что тот жил, как умел, искренне любил Камиллу и сынишку, помогал встать на ноги, точнее, на лапы, тем, кто был слабее его. Он любил своего кузена, но говорил о нем «as his long-lost brother, the one who never came to see him». Он честен, добр, наивен.
Теперь уже Камилла, в каком-то смысле, выступает в роли совести рассказчика. Она даже не пытается быть тактичной, а, наоборот, говорит нарочито резко:
«You're here to exercise your compassion... And to serve up some awful belated charity» (57).
Бенджамин испытывает чувство вины, и это ему не нравится:
«"It seems", I said, "that you want to keep me in a posture of perpetual contrition." I was suddenly proud of that phrase. It summed everything up» (59).
Эта фраза вызывает негодование Камиллы:
«Ha. 'Perpetual contrition.' Well, that'd be a start. You really don't know what Brantford thought of you, do you? Look: call your wife. Tell her about me. It'd be good for you both. Because you're...» (59).
Рассказчик останавливает ее. Мы никогда не узнаем, какой бы приговор она вынесла («condemning adjective or noun»), но кажется, что с ее губ готовы сорваться слова, которые мы уже слышали: «You're the scum of the world».
Бенджамин понимает, что очень скоро он начнет посылать им чеки на тысячи долларов:
«I would be paying this particular bill for ever. I owed them that» (59).
Шокирующим является поведение Бенджамина после разговора с Камиллой. Он идет в супермаркет и крадет там яблоко и букет цветов:
«More than enough money resided in my wallet for purchases, but shoplifting apparently was called for. It was an emotional necessity» (60).
Если провести параллель между убийством или возможным убийством в метро и кражей в супермаркете, то вырисовывается определенная закономерность в поведении рассказчика. Всякий раз после испытанного унижения он совершает что-то идущее вразрез с вечными моральными ценностями, библейскими заповедями:
«Не убий» [Исход 20: 13].
«Не кради» [Исход 20: 14].
Некая эмоциональная потребность заставляет его делать это. Жестокость, эгоцентричность, мелочность – эти качества выходят на поверхность и лишают рассказчика симпатии читателя.
В заключительной части рассказа привлекает внимание рассказ таксиста–эфиопа о девяти сердцах сомалийца: «...a Somali will not reveal his heart to you. He will reveal a false heart, not his true one. But you get past that, in time, and you get to the second heart. This heart is also and once again false. In repetition you will be shown and told the thing which is not. You will never get to the ninth heart, which is the true one, the door to the soul. The Somali keeps that heart to himself» (60–61).
В контексте рассказа именно Бенджамин получает статус «the thing which is not», подтвержденный заключительным эпизодом рассказа, который похож на страшный сон. Бенджамин возвращается домой, но то ли звонки на всех дверях перестали работать, то ли его никто не ждет – его как будто бы больше нет. У него есть ключи, но ему нужно, чтобы его впустили. Каждый в доме занят своим делом. Никто не слышит его звонков. Никто не бежит к двери. Он стучит в окно, и неясно, слышат ли его. В конце рассказа Бенджамин все еще ждет, чтобы его впустили. При этом он чувствует присутствие своего кузена в саду и думает: «If I had been Brantford, all the yard animals would have approached me. But if I had been Brantford, I wouldn't be living in this house. I wouldn't be here» (62). Таким образом, в конце рассказа автор делает Бенджамина никому не нужным.
Можно рассматривать заглавных героев рассказа как носителей иносказательного смысла. Они две стороны одного целого (вспомним их схожесть), две возможные реализации одного и того же потенциала в зависимости от ценностных установок и связанного с ними выбора. Данный рассказ является очевидной атакой на стереотип успеха, так как тот человек, который является его воплощением, уничтожается автором, но это уничтожение не буквальное, физическое, а метафорическое. Таким образом проявляется активная ценностная позиция автора-творца, который последовательно формирует «новое ценностное отношение к тому, что уже стало действительностью для познания и поступка» [Бахтин 1975а: 30–31], а именно к американской мечте. Как мы видели, в некоторых слоях американского общества наметился оценочный сдвиг, который можно выразить формулой «From the American Dream to the Human Dream» или, что менее категорично, «From financial success to personal fulfilment» (для кого-то самореализация вполне может быть связана именно с финансовым успехом). Формирующийся конфликт ценностей постепенно должен привести к пересмотру базисной ценностной модели. Рассматриваемый текст представляет оценочный стереотип успеха как проблемный, теряющий статус бесспорного источника положительной оценки. Данный эффект достигается автором благодаря оценочным трансформациям в структуре персонажей, когда стереотипный положительный герой эволюционирует в сторону отрицательного полюса, а «хромая утка» Брэнтфорд, наоборот, все больше вызывает симпатии читателя. Тем не менее смерть Брэнтфорда заставляет воспринимать изображаемый процесс как конфликтный. Не всем по-другому мыслящим удается встроиться в существующие общественные рамки и отстоять свою инаковость.
Senior Lecturer in the Department of English Language and ELT
Bryansk State University
Список литературы Динамика оценки в современном художественном нарративе (на материале рассказа Ч. Бакстера (Ch. Baxter) «Двоюродные братья» ("The cousins"))
- Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. М.: Языки рус. культуры, 1999. 896 с.
- Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности//Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. С. 9-226.
- Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве//Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975а. С. 6-71.
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе//Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975б. С. 234-407.
- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма//Вебер М. Избранные произведения/пер. с нем. М. Левина, А. Филиппова и др. М.: Прогресс, 1990. С. 44-271.
- Виноградов С. Н. Аксиологический аспект словоупотреблений и текстовых повторов//Вестник Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2007. № 6. С. 265-269.
- Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. 2-е изд., доп. М.: Едиториал УРСС, 2002. 280 с.
- Каган М. С. Философская теория ценности. СПб.: ТОО ТК « Петрополис», 1997. 205 с.
- Кравченко А. В. От языкового мифа к биологической реальности: переосмысляя познавательные установки языкознания. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2013. 388 с.
- Новейший философский словарь. 3-е изд., испр./сост. и гл. науч. ред. А. А. Грицанов. Минск: Книжный Дом, 2003. 1280 с.
- Чеснокова В. Ф. Язык социологии. М.: ОГИ, 2010. 544 с.
- Baxter Ch. The Cousins//The Best American Short Stories 2010. Boston; N.Y.: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2010. P. 42-62.
- Eaves E. Be All You Can Be -And Hurry Up About It. URL: http://www.forbes.com/2007/10/09/s uccess-stress-opportunity-ent-dream1007-cx_ee_1009misery.html (дата обращения: 03.11.2014).
- Forbes. URL: http://www.forbes.com/2007/03/20/american-dream-oped-cx_de_dream0307_0322dream_land.html (дата обращения: 01.11.2014).
- Gajda K. The American Dream is Dead (Long Live the American Dream!). URL: http://www.ridiculouslyextraordinary.com/SpecialOp s/AmericanDreamIsDead.pdf (дата обращения: 7.11.2014).
- Graeber D. Towards an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams. N.Y.: Palgrave, 2001. 337 p.
- Incredible People Answer 1 Powerful Question/URL: http://www.ridiculouslyextraordinary.com/the-american-dream-is-dead/(дата обращения: 7.11.2014).
- Malrieu J. P. Evaluative Semantics: Cognition, Language and Ideology. L., N.Y.: Routledge, 1999. 316 p.
- 2011. MetLife Study of the American Dream: The Do-It-Yourself Dream. URL: https://www.metlife.com/assets/cao/gbms/studies/m etlife-2011-american-dream-report.pdf (дата обращения: 29.10.2014).
- Putnam H. The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Cambridge; London: Harvard University Press, 2003. 145 p.
- Rokeach M. From Individual to Institutional Values: With Special Reference to the Values of Science//Rokeach M. Understanding Human Values: Individual and Societal. N.Y.: The Free Press; L.: Collier Macmillan Publishers, 1979. P. 47-70.
- Schwartz S. H. Basic Human Values: An Overview. URL: http://segrdid2.fmag.unict.it/Allegati/convegno%207-8-10-05/Schwartzpaper.pdf (дата обращения: 03.11.2014).
- Webster's Third New International Dictionary. Cologne: Konemann, 1993. 2662 p.
- Williams R. M., Jr. Changes and Stability in Values and Value Systems: A Sociological Perspective//Rokeach M. Understanding Human Values: Individual and Societal. N.Y.: The Free Press; L.: Collier Macmillan Publishers, 1979. P. 15-46.