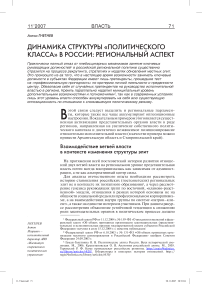Динамика структуры "политического класса" в России: региональный аспект
Автор: Гнетнев Антон Игоревичт
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 11, 2007 года.
Бесплатный доступ
Практически полный отказ от плебисцитарных механизмов занятия ключевых руководящих должностей в российской региональной политике существенно отразился на процессе рекрутинга, стратегиях и моделях обновления местных элит. Это произошло из-за того, что в настоящее время возможности занимать ключевые должности в субъектах Федерации имеют лишь претенденты, прошедшие тест на «профессиональную пригодность» по критерию личной лояльности и преданности центру. Обезопасив себя от случайных претендентов на руководство исполнительной властью в регионе, Кремль параллельно наделил муниципальный уровень дополнительными возможностями и полномочиями, так как в современных условиях лишь этот уровень власти способен аккумулировать на себя всю существующую оппозиционность по отношению к сложившемуся политическому режиму.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164041
IDR: 170164041
Текст научной статьи Динамика структуры "политического класса" в России: региональный аспект
в этой связи следует выделить и региональные парламенты, которые также все чаще аккумулируют оппозиционные настроения. Показательнымпримеромэтого является существенная активизация представительных органов власти в ряде регионов, направленная на увеличение собственного политического капитала и достаточно независимое позиционирование относительно исполнительной власти (в качестве примера можно привести А-рхангельскую область и Ставропольский край).
взаимодействие ветвей властив контексте изменения структуры элит
На протяжении всей постсоветской истории развития отношений двух ветвей власти на региональном уровне представительная власть почти всегда воспринималась как зависимая от администрации, а не как альтернативный центр силы.
Для анализа отечественного опыта необходимо рассмотреть историю становления российских (постсоветских) региональных элит не в контексте их поэтапного образования3, а через рассмотрение генезиса руководящих групп по восточной, «кланово-родственной» модели, отношения в рамках которой основаны не на общности социальной среды или профессиональном корпоративизме, а на взаимодействиях внутри группы по системе «патрон–клиент», а также на единстве интересов участников. При данном ракурсе рассмотрения объяснение устойчивой тенденции к снижению роли законодательных органов в политическом процессе должно
ГНЕТНЕВ Антон
Игоревич – исполнительный директор АНО «Институт современного политического управления»
происходить не путем формально-логических объяснений, основанных на наличии больших ресурсов у исполнительной власти, чем у власти представительной, а через совершенно иные доводы.
Б-ыстро завершившийся этап «войны всех против всех» (1990–1993 гг.), то есть распределения ключевых региональных ресурсов и руководящих должностей, привел к тому, что стало крайне невыгодно начинать новые споры за власть, в результате которых единственным победителем оказывается федеральный центр, который, воспользовавшись ситуацией, может ввести своего «конкурсного управляющего», неподконтрольного местным элитным группам.
На протяжении последних 16 лет новые участники региональных политических отношений, а также представители «второго эшелона» элитмоглиполучитьдоступ к власти только лишь за счет встраивания в уже сложившиеся системы взаимодействий. Институты представительной власти, попадание в которые было сопряжено с наличием значительных финансовых либо административных ресурсов, также были связаны общими целями с администрацией, работая на получение дополнительных льгот и преференций из центра. В силу этих обстоятельств чиновник, занимая определенное положение в региональной политической системе, обслуживал интересы не только своей группы, но и других представителей, интегрированных в правящий класс. Таким образом, наличие общего оппонента в лице федерального центра и подчиненный статус бизнеса дополнительно обусловили срастание двух ветвей власти в условиях доминирования исполнительной.
изменение роли региональных парламентов
Устоявшийся в массовом сознании в результате отмеченных процессов образ «карманного парламента» существенно подрывал авторитет законодательного органа. Основной сложностью развития этой ветви власти на протяжении последних 16 лет был пропорциональный принцип формирования 50-процентные депутатского корпуса, в результате применения которого была затруднена возможность появления яркого лидера регионального масштаба.
И сейчас обезличенный характер восприятия законодательного органа в массовом сознании создает дополнительные трудности в процессе формирования в парламентской среде независимого политического лидера с яркой индивидуальностью. Сегодня значительную долю ресурса, возможного от участия в работе представительного органа, забирает на себя партийная организация субъекта Р-Ф, членом которой является потенциальный общерегиональный лидер. Коллективный характер и доминирование пропорционального принципа формирования законодательного органа создавали и создают существенные барьеры для аккумулирования отдельным политиком лидерского потенциала на общерегиональном политическом поле. Это ведет к потере влияния на личностно ориентированных избирателей, которые отдают предпочтение прежде всего не идеологически-партийным платформам, а ярким кандидатам с ярко выраженными лидерскими качествами. Данное явление проявляется именно в разрезе региональной политики, так как известна тенденция, что чем ниже уровень выборов, то тем больше избиратель ориентируется не на партийную принадлежность, а на личность кандидата.
В то же время на современном этапе развития российского государства на региональном уровне идут процессы, которые можно охарактеризовать как усиление роли представительных органов (вплоть до доминирования над исполнительной ветвью власти, традиционно занимавшей приоритетное положение по отношению к двум другим).
Представительные органы в таких субъектах Федерации выступают буфером, аккумулирующим интересы влиятельных групп, которые не обладают решающим преимуществом в борьбе за исполнительную власть. «Органы местной власти (в том числе и представительные. – Авт.) …явля-ются объектом воздействия центрального законодательства, а структура, функции, финансовые механизмы местного управления отражают предпочтения национальных элит»1. Особо ярко эти процессы проявляются в условиях жесткого контроля со стороны федерального центра, навязывающего собственную компромиссную канди- датуру на пост руководителя исполнительной власти региона.
В настоящее время обозначенная тенденция наблюдается в А-рхангельской области, А-лтайском и Ставропольском краях и ряде других регионов, в которых представительная власть является более авторитетной и опытной, что позволяет ей играть решающую роль в политических процессах, что отчасти является следствием кадровых ошибок, допущенных при формировании исполнительной ветви власти.
Представительные органы также становятся единственными институтами, способными институционально выражать доверие назначаемому из Москвы главе администрации, а также артикулировать и выражать позиции и инициативы граждан в вопросах государственного строительства, используя все преимущества коллегиальной формы управления. Значение тенденции усиления представительных органов заключается в возможности приобретения этим процессом статуса общефедерального явления, при котором равенство ветвей власти становится не номинальным, но фактическим условием властно-гражданского диалога.
активизация участия муниципалитетов в политической жизни регионов
В качестве существенной тенденции современного этапа процесса структуризации политического класса в Р-оссии можно отметить следующее: во всех федеральных округах существуют серьезные конфликты между главой администрации региона и главой муниципалитета «столицы» субъекта Федерации. Эти явления также имеют одно из определяющих значений в вопросах обновления кадрового состава региональной политической элиты.
В последние годы на общероссийском уровне наблюдается тенденция к усилению политизации фигуры мэра, который не только обладает, но и целенаправленно использует материальный, электоральный, информационный и другие ресурсы в политической борьбе (очень часто – против региональной администрации), так как является народным избранником, формально независимым от центра. Данные процессы, помимо очевидного противостояния двух уровней власти, обладающих в некоторых регионах балансом сил, могут иметь большие последствия для публичной политики не только на региональном, но и на федеральном уровне.
Отменавыборностигубернаторовсозда-ла новые условия для развития обозначенного конфликта. В сложившихся условиях глава региона имеет весь спектр административного ресурса, а руководитель муниципалитета активизирует доступ к ресурсам публичного политика, поддерживаемого народом. Эти стратегии реализуются по схеме, во многом похожей на процессы усиления региональных парламентов, с той лишь разницей, что руководитель регионального центра имеет большие возможности для увеличения электорального и личностного ресурса, чем любой депутат коллегиального института. Как уже говорилось выше, ресурсы, которыми располагает мэр «столицы» региона, во многих случаях немногим уступают возможностям главы администрации региона, так как город зачастую сосредотачивает на себе основной финансовый, производственный и интеллектуальный потенциал региона.
Следует предположить, что за пост главы муниципалитета крупных и средних городов конкуренция во время выборов будет усиливаться. Занятие должности мэра по сути становится единственным способом резкого изменения структуры «политического класса» региона для новых элит, выдвинувшихся прежде всего за счет успешной бизнес-деятельности и не принимавших участие в первоначальном распределении политических ресурсов в 90-е годы ХХ века.
Сам факт участия в выборах мэра имеет меньшее количество стартовых заградительных барьеров, чем участие в выборах в представительные органы власти. В результате чего появляются существенные перспективы для реализации своих интересов в случае победы. Вопрос о введении института «сити-мэнеджера», то есть о назначаемости главы муниципального образования только-только начинает публично обсуждаться. Учитывая эти обстоятельства, необходимо указать, что применение политических технологий приобретает особое значение именно в аспекте избирательных кампаний мэров городов, так как на них будут направлены основные ресурсы (в первую очередь финансовые) групп, по разным причинам не представленных либо ущемленных в правах в сложившейся структуре «политического класса». Таким образом, не «идеолого-партийные» кампании парламентов, а «личностные» избирательные плебисциты мэров в ближайшее время будут носить определяющий характер в вопросах обновления состава элит российских регионов.
Р-еализацию этого тезиса уже сейчас можно видеть на примере ряда субъектов Федерации (А-рхангельская и Орловская области, Ставропольский край и т. д.), где конфликты мэра и губернатора оказывают решающее значение на ход политического процесса.
На основании имеющихся исследований можно сделать вывод, что в регионах такого типа существуют сложные конгломераты групп интересов, чья активность на данный момент носит теневой характер. В случае смены власти противоположные групповые интересы могут быть артикулированы публично, что в отсутствие лидера, способного своим авторитетом объединить представителей различных точек зрения, может привести к конфликтам и непредсказуемым образом отразиться на структуре «политического класса».
Сегодня наличие постоянных конфликтов мэров и губернаторов в большинстве регионов страны свидетельствует о коренном, качественном противостоянии альтернативных друг другу центров власти и попытках инициирования новой волны перераспределения региональных политических ресурсов. В связи с этим наблюдается устойчивое желание некоторых представителей федерального центра и ряда губернаторов «достроить» властную вертикаль за счет введения института назначаемости мэров (^ity-менеджеры).
Однако в результате политики государства, направленной на выстраивание властной вертикали (отмена прямой выборности губернаторов, практически полный перевод выборов в парламенты на пропорциональную систему), помимо очевидного положительного эффекта наблюдается ряд неоднозначных тенденций, которые в долгосрочной перспективе могут обусловить замедление темпов развития страны. В качестве таких обстоятельств выделим:
во-первых, перевод политики в кулуарную сферу, повышение «закрытости» групп интересов, что затрудняет естественное обновление «политического класса»;
во-вторых, недостаточная развитость открытых механизмов рекрутинга элит на местах, которая негативно отражается на процессах вертикальной мобильности, а следовательно, на кадровом потенциале федеральных органов власти, ограничивая их возможности по обновлению своего состава за счет выдвиженцев из регионов;
в-третьих, особая активность коммерческих (торговых), а не предпринимательских элит в процессе борьбы за власть на местном и региональном уровне. Для данного типа акторов характерна ориентация на краткосрочные проекты, приносящие быструю прибыль, что в случае их успеха может привести к возобладанию тактики над стратегией в региональной политике;
в-четвертых, переоценка степени радикализма и уровня притязаний всех видов оппозиции правящей элитой, которая приводит к превышению разумной силы «превентивных мер» и эскалации конфликтов, которые можно было разрешить на стадии возникновения.
Таким образом, в контексте обозначенных проблем особое значение приобретает развитие технологий оптимизации взаимодействия между различными уровнями и ветвями власти, а также выработка стратегии кадровой политики государства, которую следует рассматривать в рамках комплекса отраслевых политик. Исходя из специфики описанных выше проблем, основным принципом работы по их решению должно стать повышение транспарентности (информационной открытости) в рамках политической системы, что само по себе поможет снять много вопросов.
Особая роль в этом процессе может принадлежать партийной системе, структура которой в настоящее время достаточно жестко моделируется из Москвы. Именно наличие нескольких институциональных (и реальных) центров силы будет способствовать созданию условий для легальной реализации карьерных стратегий в политике для всех заинтересованных лиц, обладающих необходимыми базовыми ресурсами, то есть возникновению цивилизованной политической конкуренции.