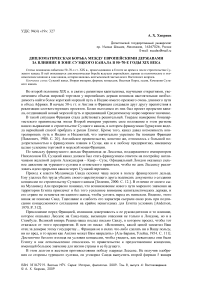Дипломатическая борьба между европейскими державами за влияние в зоне Суэцкого канала в 50-70-е годы XIX века
Автор: Хизриев Али Хизриевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена событиям 50-70-х гг. XIX в., происходившим в Египте во время и после строительства Суэцкого канала. В ней описывается дипломатическая борьба ведущих европейских держав за политическое и экономическое влияние в зоне канала, которая являлась неотъемлемой частью всего Восточного вопроса.
Суэцкий канал, вторая империя, фирман, концессия, высокая порта, хедив, компания суэцкого канала
Короткий адрес: https://sciup.org/14737122
IDR: 14737122 | УДК: 94(4)
Текст научной статьи Дипломатическая борьба между европейскими державами за влияние в зоне Суэцкого канала в 50-70-е годы XIX века
Во второй половине XIX в. в связи с развитием капитализма, научными открытиями, увеличением объема мировой торговли у европейских держав возникла настоятельная необходимость найти более короткий морской путь в Индию вместо прежнего очень длинного пути в обход Африки. В начале 50-х гг. и Англия и Франция создавали друг другу препятствия в реализации соответствующих проектов. Более выгодным из них был проект прорытия канала, создававший новый морской путь и придававший Средиземному морю мировое значение.
В такой ситуации Франция стала действовать решительней. Твердое намерение бонапартистского правительства эпохи Второй империи укрепить свое положение в этом регионе нашло выражение в строительстве Суэцкого канала, в котором французская буржуазия видела вернейший способ прибрать к рукам Египет. Кроме того, канал давал возможность контролировать путь в Индию и Индокитай, что значительно укрепило бы позиции Франции [Павлович, 1980. С. 20]. Английское правительство, конечно же, относилось с большой подозрительностью к французским планам в Суэце, как и к любому предприятию, имевшему целью усиление торговой и морской мощи Франции.
По замыслу французского дельца Фердинанда де Лессепса, поддержанного императором Наполеоном III, Суэцкий канал должен был стать французским ответом на постройку англичанами железной дороги Александрия – Каир – Суэц. Официальный Лондон оказывал сильное давление на турецкого султана и египетского правителя, чтобы не дать Лессепсу реализовать идею прорытия канала через Суэцкий перешеек.
Приход к власти Мухаммеда Саида склонил чашу весов в пользу французского дельца. Ему удалось без труда убедить своего царствующего друга подписать документы о создании концессии по строительству Суэцкого канала [Зеленев, 2000. С. 12.]. В отличие от своего сына Мухаммед Али прекрасно понимал, что возникновение нового пути мирового значения на территории Египта привлечет и без того усиленное внимание капиталистических держав, и его стране не останется ни единого шанса, чтобы устоять перед их натиском. Видимо, этого никак не понимал Саид. Тщеславие и слабость его характера сыграли свою роль при подписании концессионного соглашения на крайне невыгодных для Египта условиях [Anderson, 1970. P. 312].
Преклонение перед Францией, излишняя доверчивость к ее руководителям и то влияние, которое оказывал Лессепс на Саид-пашу, вызывали опасения не только в Лондоне, но и в Стамбуле. Великий визирь Решид-паша послал письмо Саиду, в котором просил, чтобы тот отказался от этого предприятия. В нем он писал: «Вспомните, какой ценой заплатил Ваш отец за доверие этому государству… Франция не в силах что-либо сделать ни в Вашу пользу, ни во вред, в то время как Англия может Вам навредить» [Аль-Барави, Улейш, 1954. С. 111]. Достаточно беглого взгляда на условия концессии, чтобы увидеть, как невыгодны они были Египту и как легкомысленно относилось то правительство к предоставлению концессии, имеющей большое значение для жизни страны и ее будущего.
В этом долгом и жестком противостоянии победу одержал Лессепс. Не получив одобрения со стороны турецкого султана, он уговорил Саида выпустить второй фирман 5 января
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 4: Востоковедение © А. Х. Хизриев, 2009
1856 г. о концессии на строительство канала без разрешения сюзерена [Виноградов, 1969. С. 32]. Фердинанд де Лессепс после такой удачной сделки с Саидом, превзошедшей все самые лучшие его ожидания, мог отмечать триумф. Но успех в Каире не означал, что дела пойдут также гладко в Лондоне и даже в Париже. Французская правящая клика не слишком поощряла Лессепса, приглядываясь к нему [Виноградов, 1991. С. 146]. Но поддержка Евгении Монтихо, супруги Наполеона III, помогла Лессепсу в размещении более 50 % акций во Франции [Там же. С. 148]. Возможно, французский император негласно сам имел долю в компании Суэцкого канала [Зеленев, 2000. С. 13].
Когда французам удалось «свалить» великого визиря Решида в Турции, британский министр Кларендон прибег к прямому давлению. В ноте, адресованной в июне 1855 г. парижскому правительству, он выдвинул три возражения против проекта Лессепса:
-
1) «канал физически невозможен…»; если же его сооружение будет предпринято, то, очевидно, только из политических соображений;
-
2) канал затянет или даже помешает строительству железной дороги Каир – Суэц;
-
3) канал угрожает «отделить Египет от Турции» и «перерезать» пути сообщения между Англией и британской Индией [Виноградов, 1991. С. 30].
Такая позиция Англии определялась всем комплексом колониальных и внешнеполитических интересов британских капиталистических кругов. Навязчивой идеей британского премьер-министра Пальмерстона и его министра иностранных дел стала мысль о том, что французы уже приступают к сооружению укреплений на Средиземноморском побережье Египта и на Суэцком перешейке [Там же].
В Суэцком вопросе Англия встретила полное понимание со стороны австрийской дипломатии. Австрийский генеральный консул в Египте всегда присоединялся к своему английскому коллеге в его явных и тайных акциях, направленных против канала. Причина таких действий станет ясной, если вспомнить, что в это время Австрия находилась в состоянии войны с Францией на Аппенинском полуострове. Что касается прусского посла, то он в Суэцком вопросе держался пассивно [Панченкова, 1966. С. 23].
О позиции русского правительства можно судить по документам Н. А. Ерофеева. Некоторые из них были использованы им для освещения вопроса об англо-французской борьбе за Суэцкий канал [Ерофеев, 1957. С. 604–606]. В кругах царской дипломатии проект Лессепса расценивался как выгодный для России, хотя бы потому, что, обостряя противоречия между Англией и Францией, он способствовал разъединению держав – победительниц в Крымской войне [Нерсесов, 1983. С. 130]. Русский посол в Турции Е. Новиков, согласно указаниям своего правительства, поддерживал французскую дипломатию в ее усилиях добиться от султана санкции на строительство канала [Панченкова, 1966. С. 23].
Тогда, потерпев здесь неудачу, Лессепс после долгих и безуспешных уговоров выманил у своего «верного друга» Саида чистые бланки с его подписями и, не поставив его в известность, приписал все нераспроданные акции правителю Египта. На первом общем собрании акционеров Компании Суэцкого канала в мае 1860 г. Лессепс объявил о завершении подписки на акции [Виноградов, 1991. С. 34]. Кроме того, согласно концессии 1856 г. президент компании назначался теперь не Египтом, а им становился – на 10 лет – сам Лессепс [Marlowe, 1954. P. 102–103].
В соответствии с условиями концессии он начал строительные работы уже в апреле 1859 г., т. е. через пять лет после ее получения. Отстаивая свои позиции, Лессепс их вдвойне укрепил, когда добился смещения действующего французского генерального консула в Египте, который, по мнению последнего, не проявлял достаточного энтузиазма в осуществлении его планов. Лессепс продолжал попытки ускорить ратификацию концессии султаном. Он установил, что серьезнейшим препятствием к этому был английский посол в Стамбуле Генри Булвер, оказывавший прямое давление на султана, как для воспрепятствования ратификации, так и в настоятельном требовании от Саида прекратить строительные работы на канале. Доводы Лессепса оказались не убедительными для Булвера, и он уехал из Стамбула, оставив султана колебаться между соперничавшими друг с другом французским и английским послами [Ibid. P. 67–68].
Положение последнего особенно осложнилось после смерти Саид-паши, не дожившего до конца Суэцкой эпопеи. Он умер 18 января 1863 г. Его преемником стал Исмаил, внук Му- хаммеда Али, сын Ибрахим-паши. В отличие от Саида он был практичным и реально оценивающим ситуацию человеком [Kinross, 1969. P. 162]. В Лондоне и Стамбуле от нового правителя ожидали пересмотра всех договоров с компанией, лишения ее экстерриториальности и даровой рабочей силы. Сам Исмаил не был противником канала и не хотел мешать его строительству, но все же намеревался, в первую очередь, аннулировать в концессионном договоре параграф о постройке пресноводного канала, о передаче в собственность компании земли и предоставлении рабочей силы. Этот параграф, по его мнению, являлся посягательством на египетский суверенитет. Исмаил предъявил компании свои требования, опираясь на поддержку Турции и Англии. С этого началась борьба обеих сторон. Еще 30 января 1863 г. хедив издал фирман о запрещении принудительного труда на строительстве Суэцкого канала. Однако Лессепсу удалось не только выпутаться из затруднительного положения, но он умудрился его использовать для нового ограбления Египта. В марте 1863 г. тот согласился взять все акции, которые компания предложила Саиду [Landes, 1958. P. 134–139].
После такого неудачного шага, зимой следующего года Исмаил-паша обратился в третейский суд, где в качестве «беспристрастного» арбитра был избран император Франции Наполеон III [Виноградов, 1991. С. 38]. В июле 1865 г. последний вынес решение, противоречившее здравому смыслу, но характерное для эпохи капиталистической экспансии. Решением арбитража требования Египта принимались при условии, что последний выплатит компании неустойку в размере 30363 тыс. фунтов стерлингов (85 млн франков) [Фатхи, 1957. С. 28, араб.]. История арбитража не знала подобного прецедента. Получив такую сумму, компания, находившаяся в трудном финансовом положении, получила возможность продолжать работы. Другими словами, Египет принудили увеличить долю своего участия в осуществлении проекта.
Находившееся у власти либеральное правительство Гладстона не высказало решительного протеста против этого решения арбитражного суда. Турция рассмотрела этот шаг как отступление Лондона от первоначальных позиций, и в апреле 1865 г. султан под непрекращаю-щимся нажимом Франции издает фирман, санкционировавший сооружение Суэцкого канала [Marlowe, 1954. P. 70].
Наконец, после десятилетних трудов, 1 ноября 1869 г. начались торжественные церемонии по случаю открытия нового водного пути. В Египет приехало свыше 3 тыс. гостей, среди которых были коронованные особы со всех концов мира; их пребывание оплачивала египетская казна. Торжественная церемония открытия состоялась в Каирском оперном театре [Виноградов, 1969. С. 39]. Первоначально общественность воспринимала открытие Суэцкого канала не только как успех Лессепса, но и как решительную победу Франции в вековой борьбе за преобладание в Египте [Там же. С. 42], однако скоро обнаружилась эфемерность такого достижения, переросшего в успех Англии.
Британская экспансия в Египте получила новый могучий стимул. Коль скоро британскому капиталу не удалось помешать сооружению канала, он поставил перед собой иную задачу – овладеть предприятием Лессепса, превратить Суэцкий перешеек в восточный Гибралтар. Одновременно борьба за обладание Суэцким каналом неизбежно перерастала в борьбу за обладание Египтом и вела к захвату всей его территории, его колониальному порабощению [История Африки, 1967. С. 66]. Предпосылки для успеха задуманной операции выглядели весьма убедительно. К их числу следует, прежде всего, отнести падение политического престижа Франции, ослабление ее экономического и военного могущества в результате поражения во франко-прусской войне 1870–1871 гг. Это значит, что Компания Суэцкого канала уже не могла рассчитывать на столь эффективную поддержку со стороны государства, какой она пользовалась во времена Второй империи. Следствием вышеперечисленных фактов станут пошатнувшиеся позиции Франции в Европе, которые приведут к новым политическим сдвигам и на Ближнем Востоке.
Сооружение Суэцкого канала в 1859–1869 гг. резко изменило политическую обстановку в мире. Если прежде мировые державы, в первую очередь Англию и Францию, устраивало лишь дипломатическое и экономическое влияние на египетское правительство, то после строительства канала исключительное значение приобретала проблема господства над зоной Суэцкого перешейка и Египтом.
Прежде вплоть до середины 60-х гг. для британской ближневосточной политики большое значение имело важное стратегическое положение Османской империи. В те годы Англия поддерживала Турцию и стремилась сохранить ее целостность по разным причинам. Во-первых, через территорию Османской империи проходил важнейший для Англии транзитный путь в Иран, Афганистан, Среднюю и Центральную Азию. Следовательно, торговля с этими странами также зависела от того, в чьих руках находился этот путь [Фадеева, 1985. С. 44]. Сохранив единство Османской империи, Британия могла контролировать его. Во-вторых, она поддерживала Блистательную Порту и как барьер против России [Синклер, 1878. С. 58]. Поэтому еще в 1853 г. до начала Крымской войны лондонский кабинет отказался от предложения Николая I об установлении российского протектората над балканскими княжествами в обмен на захват Англией Египта и острова Крит. Согласие на это означало бы излишнее усиление влияния Российской империи в Европе [История дипломатии, 1941. С. 434].
В донесении от 6 февраля 1863 г. министру иностранных дел А. М. Горчакову русский посол в Лондоне Ф. И. Бруннов писал: «С начала века английская политика на Востоке руководствуется чувством глубокого недоверия к России. Англия считает, что кабинет Санкт-Петербурга озабочен постоянным стремлением либо увеличить свои земли за счет Турции, либо расширить свое влияние на христианские народы, чтобы достичь расчленения Османской империи. Обеим этим тенденциям противится британский кабинет. Его жизненный интерес обязывает к этому. В его глазах Европейская Турция – барьер, отделяющий нас от Средиземноморья, а Азиатская Турция – щит, усиливающий безопасность английских владений в Индии. Это объясняет постоянство ее усилий, которые она нам противопоставляет всякий раз, когда полагает, что ее прямым интересам угрожает наша враждебная позиция к Турции» 1. Того же мнения придерживается и А. А. Гирс [1906. С. 209]. Можно сказать, что к 40-м гг. XIX в. правительство Пальмерстона достигает своей цели на Ближнем Востоке – ликвидации доминирующего влияния России в Османской империи, которым Петербург пользовался до 1833 г. [Anderson, 1970. P. 106].
По этой и ряду других причин в 60-х – начале 70-х гг. Англия начинает пересматривать свою восточную политику. Продолжая, по выражению французского министра иностранных дел Э. Друэна де Люиса, «окружать Османскую империю ревнивой заботливостью, британское правительство как будто бы несколько усомнилось в непогрешимости средств, к которым оно прибегало до сих пор» [Фадеева, 1985. С. 120]. В эти годы оно фактически отказалось от политики статус-кво и разработало программу по разделу Турции [Восточный вопрос…, 1978. С. 222]. Национально-освободительное движение на Балканах, тенденции к независимости в Сирии, Египте, Ливане и других провинциях Османской империи доказывали невозможность сохранения ее территориальной целостности, которую Англия поддерживала более полувека.
Англо-французское соперничество с середины 60-х гг. XIX в. усилилось именно по этим причинам. Теперь препятствий для раздела «турецкого пирога» великими державами, в том числе и Россией, больше не существовало. Вопрос был только в том, кому достанется «самый большой и лакомый кусок». Что касается остальных европейских держав, то более или менее активную роль в египетском вопросе играла кайзеровская Германия. В отличие от Англии и Франции Германия не имела крупных финансовых интересов в Египте. В своих донесениях, судя по всему, русский генеральный консул в Каире Лекс намекал на антифран-цузский аспект вмешательства Германии 2. Эта политика была направлена не столько против Всеобщей компании, сколько против Франции, и имела в виду углубление англофранцузских противоречий [История дипломатии, 1941. С. 505]. Военная тревога 1875 г., когда Англия совместно с Россией поддержала Францию в ее конфликте с Германией, сделала задачу разжигания англо-французского и англо-русского соперничества еще более актуальной для германской дипломатии [История дипломатии, 1945. С. 20–21, 69]. Стремление юнкерско-буржуазной империи Гогенцоллернов к гегемонии в Европе диктовало политику разъединения главных соперников Германии. И именно этот мотив определял позицию Бисмарка в египетском вопросе [Нерсесов, 1983. С. 147]. Конечно же, нельзя исключать из ак- тивных игроков Восточной политики и Османскую империю. Турция сама, будучи объектом политики европейских держав, все еще продолжала предъявлять свои сюзеренные права в Тунисе, Сирии, Египте, уже ставших объектом дележа Франции и Англии.
В этой ситуации правитель Египта добивается от султана особых привилегий для Египта, и 8 июня 1867 г. он получает наследственный титул хедива (от перс. «повелитель»). Этим самым титулом подчеркивалось особое место Египта и его правителя по сравнению с другими османскими правителями и их губернаторами. В 1873 г. по настоянию Исмаила султан издал указ о финансовой автономии Египта, с одной стороны, ослабивший зависимость первого от Стамбула, а с другой – открывший путь для иностранной финансовой интервенции в страну, для которой все это имело роковые последствия [Фатхи, 1957. С. 80–86, араб.]. Ослабление сюзеренитета Блистательной Порты над Египтом позволяло теперь Англии и Франции окончательно прибрать его к рукам и стало первым шагом в разделе Османской империи между европейскими державами.
Ali Kh. Khizriev
THE DIPLOMATIC STRUGGLE BETWEEN EUROPEAN POWERS FOR THE INFLUENCE TO SUEZ CANAL ZONE IN 50–70TH YEARS OF THE XIX CENTURY