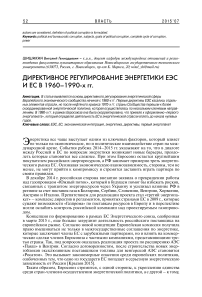Директивное регулирование энергетики ЕЭС и ЕС в 1960-х - 1990-х гг
Автор: Шишикин Виталий Геннадьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 7, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются основы директивного регулирования энергетической сферы Европейского экономического сообщества начиная с 1960-х гг. Первые директивы ЕЭС касались отдельных элементов отрасли, но после нефтяного кризиса 1970-х гг. страны Сообщества перешли к более скоординированной энергетической политике, которая осуществлялась по нескольким ключевым направлениям. В 1990-х гг. в рамках Евросоюза она была скорректирована, что привело к оформлению первого энергопакета, который определял деятельность ЕС в энергетической отрасли вплоть до начала нулевых годов.
Еэс, ес, экономическая интеграция, энергетика, директивы, первый энергопакет
Короткий адрес: https://sciup.org/170168028
IDR: 170168028
Текст научной статьи Директивное регулирование энергетики ЕЭС и ЕС в 1960-х - 1990-х гг
Э нергетика все чаще выступает одним из ключевых факторов, который влияет не только на экономическое, но и политическое взаимодействие стран на международной арене. События рубежа 2014–2015 гг. указывают на то, что в диалоге между Россией и ЕС по вопросам энергетики возникают новые барьеры, преодолеть которые становится все сложнее. При этом Евросоюз остается крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, а РФ занимает примерно треть энергетического рынка ЕС. Осознавая экономическую взаимозависимость, стороны, тем не менее, не могут прийти к компромиссу и стремятся заставить играть партнера по своим правилам.
В декабре 2014 г. российская сторона внезапно заявила о прекращении работы над газопроводом «Южный поток», который в будущем помог бы избежать рисков, связанных с транзитом энергоресурсов через Украину и усиливал влияние РФ в регионе за счет поставок газа в Болгарию, Сербию, Словению, Венгрию, Хорватию, Австрию и Италию. Препятствием для реализации проекта стал «третий энергопакет» – комплекс директив и регламентов, принятых странами ЕС в 2009 г., которые сужают возможности «Газпрома» по поставкам ресурсов в Европу и в перспективе могли ослабить контроль российской компании над проектируемым газопроводом.
Концепция по формированию в рамках ЕС Энергетического союза, одобренная в марте 2015 г., еще больше затруднит деятельность российского поставщика на европейском рынке. Согласно новой концепции Европейская комиссия получила право вмешиваться не только в межгосударственные соглашения по энергетике, которые заключают члены ЕС с зарубежными партнерами, но и влиять на коммерческие сделки членов Евросоюза с частными компаниями, представляющими третьи страны. Так, под вопросом оказалась реализация проекта по расширению АЭС «Пакш» в Венгрии. Согласно договоренностям, после строительства новых энергоблоков эксклюзивным поставщиком топлива для венгерской АЭС становится «Росатом». Это вызывает закономерные опасения среди европейских политиков, озабоченных тем, что одно из государств ЕС попадает в серьезную энергетическую зависимость от России [Крылов 2015].
Таким образом, Евросоюз стремится, с одной стороны, к укреплению единства среди стран-членов в осуществлении энергетической политики, а с другой – к тому, чтобы не допустить усиления влияния третьей стороны на рынок Европы. При этом экономическая выгода, которую может получить одно или группа государств ЕС от сотрудничества со сторонними партнерами, ставится в зависимость от решений в первую очередь Еврокомиссии, которая выступает от имени всего Союза и апеллирует к обновленной нормативной базе по вопросам энергетики.
Отправной точкой для формирования единой энергетической политики в регионе после Второй мировой войны стало оформление Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Правда, в Парижском договоре 1951 г. угольная и сталелитейная промышленности фактически везде упоминаются в неразрывной связи. Для Объединения на тот момент приоритетным являлось создание общего рынка добывающей и тяжелой промышленности 1 . Такой подход, по мнению Р. Шумана, считающегося «отцом европейской интеграции», помогал сгладить противоречия между Францией и ФРГ. Богатые полезными ископаемыми приграничные районы двух стран, которые раньше являлись яблоком раздора, в новых условиях становились регионом по сближению их экономик. Уголь в данном случае выступал как ключевой ресурс металлургии и смежных отраслей, а не энергетики. Таким образом, первоначально была оформлена идея тесной экономической интеграции, которая в последующем вышла за пределы взаимодействия исключительно в области добычи ресурсов и металлургии и распространилась на другие сферы, в т.ч. и на энергетику.
После оформления в 1957 г. Европейского экономического сообщества (ЕЭС) шестерка стран в лице ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга начала расширять масштабы сотрудничества в разных отраслях экономики. Энергетика на тот момент не упоминалась среди приоритетов 2 . Лишь в 1960-х гг. страны ЕЭС предприняли целенаправленные меры по регулированию энергетической сферы [Володин 2010: 14]. В Директиве 1968 г. № 68/414 ЕЭС указывалось на то, что нехватка энергоресурсов может привести к тяжелым последствиям для экономик Сообщества. Чтобы избежать кризисных явлений, необходимо обеспечить бесперебойные поставки сырой нефти и нефтепродуктов. Директивой были установлены требования к членам Сообщества: иметь резервы основных видов топлива (бензина, средних дистиллятов и мазута) не менее чем на 65 дней. Страны ЕЭС должны были ежеквартально отчитываться о состоянии запасов топлива в своих хранилищах. При этом говорилось, что в случае крайней необходимости они должны воздерживаться от использования резервов до консультаций с партнерами 3 . Таким образом, была закреплена ключевая для стран ЕЭС роль нефти, а не угля, как ранее, которая обеспечивала развитие экономики Сообщества в целом и энергетики в частности.
В 1972 г. согласно Директиве № 72/425 ЕЭС планка по запасам нефти и нефтепродуктов для стран Сообщества была повышена до 90 дней. Причиной подобного шага стал рост озабоченности Еврокомиссии, Европарламента и Комитета по экономическим и социальным вопросам растущей зависимостью экономик ЕЭС от поставок нефти из третьих стран. Увеличение запасов было необходимым условием для смягчения угроз в случае возможных перебоев в поставках энергоресурсов. Меры по увеличению резервов топлива страны ЕЭС должны были осуществить не позднее 1975 г. До этого членам Сообщества вменялось поддерживать их на таком уровне, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование экономики на протяжении не менее 65 дней1.
В июле 1973 г. была издана Директива № 73/238 ЕЭС, в которой большое внимание уделялось не внешним, а внутренним аспектам энергетической безопасности. Согласно Директиве страны ЕЭС должны представить национальным компетентным органам особые полномочия в случае возникновения сложностей при поставках нефти и нефтепродуктов. Для предотвращения затруднений указанные компетентные органы могли привлекать на рынок ресурсы из резервов, не превышая установленный лимит, предпринимать меры по регулированию внутреннего спроса, чтобы избежать повышения цен. Каждой стране ЕЭС вменялось разработать индивидуальный план интервенций на внутреннем рынке. В случае возникновения проблем у одного их членов Сообщества планировалось созвать Комиссию с участием представителей государств ЕЭС для принятия совместного решения 2 .
Директивы вступили в силу накануне введения странами ОПЕК нефтяного эмбарго, которое привело к сокращению поставок энергоресурсов в Западную Европу с Ближнего Востока, росту цен на углеводороды и послужило катализатором для структурных преобразований в экономике западных стран. Топливный кризис 1973–1974 гг. также стал отправной точкой для более тесного сотрудничества государств ЕЭС по вопросам энергетики, которые касались как нефтяной промышленности, так и смежных отраслей. Чтобы минимизировать подобные угрозы в будущем, в 1974 г. в Париже было образовано Международное энергетическое агентство, в рамках которого члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) могли координировать свои действия в вопросах энергетики. Создание Агентства указывало на одну из ключевых ролей отрасли в хозяйственных системах не только государств ЕЭС, но также развитых стран Северной Америки и Азии.
Структурные изменения в экономике стран ЕЭС, спровоцированные топливным кризисом, осуществлялись одновременно с разработкой новых концепций в области энергетики. В 1974 г. были опубликованы резолюции «О новой стратегии в области энергетической политики» 3 и «О целях энергетической политики Сообщества к 1985 году» 4 . Появление первой резолюции стало закономерным итогом встреч в Париже в 1972 г. и Копенгагене в 1973 г., на которых представители ЕЭС высказались за формирование единой энергетической стратегии. Здесь были сформулированы основы новой политики, которые включали разработку совместных планов развития энергетики, тесную координацию действий стран-членов при проведении мероприятий в этой сфере как внутри Сообщества, так и на международном уровне. Помимо этого, было принято решение активизировать развитие ядерной энергетики, а также альтернативных источников энергии 5 . Повышение уровня взаимодействия стало еще одним компонентом энергетической стратегии ЕЭС вслед за сформулированной ранее политикой энергетической безопасности. При этом наднациональные органы Сообщества не имели права вмешиваться в политику отдельных стран, но могли давать рекомендации и контролировать их, требуя отче ты о результатах проведенных мероприятий.
Усилия Сообщества были нацелены и на повышение уровня энергетической независимости. Отмечалось, что в 1973 г. ЕЭС получает из третьих стран около 63% энергии. К 1985 г. было запланировано довести этот показатель до 50%, а в самом благоприятном случае – до 40%. В первом и втором случаях доля твердых видов топлива в общем энергобалансе Сообщества должна была сократиться с 22,6% до 17%, нефти – с 61,4% до 49% в первом случае и до 41% – во втором. Доля газа, наоборот, должна возрасти с 11,6% до 18% в случае реализации первого варианта и до 23% – при самом благополучном развитии событий. При этом доля энергии, получаемой при помощи ГЭС, оставалась неизменной – 3% в обоих вариантах. Планировалось нарастить долю атомной энергетики: в первом случае с 1,4% до 13%, во втором – до 16%. К 1985 г. также планировалось снизить на 15% общие энергозатраты Сообщества. Достижению поставленных целей должны были способствовать закупки ресурсов в третьих странах, которые сочетались бы с разработкой собственных месторождений угля, нефти и газа, а также строительством сети ГЭС и АЭС. Особое место в формировании единой энергетической политики отводилось внедрению достижений научно-технического прогресса, что вело к сокращению издержек и повышению качественных показателей работы отрасли 1 .
Однако члены ЕЭС, несмотря на разработку новых директив и планов по развитию энергетики, продолжали осуществлять политику, исходя в первую очередь из национальных интересов и ставя собственную выгоду превыше интересов Сообщества. В 1980-х гг., несмотря на действие директив, регламентирующих объемы минимальных запасов нефти, резервов топлива в хранилищах ряда европейских государств хватало лишь на 25 дней. Важную роль в этом играли национальные энергетические компании, для которых деятельность внутри страны была более приоритетной, чем работа на рынке всего ЕЭС 2 . Наднациональные органы Сообщества не имели возможности принудить страны ЕЭС четко соблюдать все требования единой энергетической политики. Директивы были нацелены на то, чтобы подтолкнуть национальные органы власти принимать законы, инструкции и создавать такие условия, чтобы выполнять рекомендации, содержащиеся в актах Сообщества. Для мониторинга энергетической сферы от членов ЕЭС требовалось представлять отчеты, неисполнение которых, однако, не вело к принятию каких-либо санкций в отношении нарушителей. На недостаточный уровень координации действий в энергетике также влияло и отсутствие гармонизированного законодательства во всех странах Сообщества, которое бы могло служить базой для проведения единой политики. Именно эту проблему постарались решить государства ЕЭС в последующие годы.
С публикацией в 1986 г. Единого европейского акта связан пересмотр экономической стратегии странами ЕЭС и их стремление проводить более скоординированную хозяйственную политику3. В 1988 г. Еврокомиссией был представлен рабочий документ под названием «Внутренний энергетический рынок», где было заявлено, что главной целью Сообщества является создание действительно единого европейского рынка энергетики. Для этого планировалось ликвидировать технические и налоговые барьеры между странами в вопросах энергетики, добиться свободного перемещения ресурсов, а для этого привлечь энергетические монополии к активным действиям на рынке всего ЕЭС, а не только на территории стран-реципиентов. Речь также шла о повышении дисциплины среди членов Сообщества в осущест- влении единой политики, координации действий по вопросам ценообразования, транзита и развития инфраструктуры1.
Новые правила были ориентированы на уточнение и модернизацию мер директивного воздействия в сфере энергетики и одновременно подталкивали членов Сообщества к большей информационной открытости. Таким образом, в энергетическую политику ЕЭС был добавлен еще один компонент. Повышение прозрачности европейского энергетического рынка началось с публикации Директивы № 90/377 ЕЭС, согласно которой потребителям становилась доступна информация о ценах на энергоресурсы в рамках всего Сообщества. Для этого государства-члены должны были сообщать Статистическому бюро Европейских сообществ данные о ценах на электричество и природный газ дважды в год – в январе и июле. При этом в самой Директиве прописывалось, в каком населенном пункте цены на газ будут служить ориентиром. Например, для небольшой Дании это был Копенгаген, а для Италии – Милан, Турин, Генуя, Рим и Неаполь. По несколько иной схеме оформлялись данные по электричеству 2 . Широкая доступность этой информации повышала уровень контроля над ценами на энергоресурсы со стороны потребителей – промышленных предприятий, компаний и населения, а также помогала избежать их завышения в одних странах и занижения – в других. Энергетические компании оказывались одновременно под тройным надзором – со стороны Сообщества, национальных правительств и конечных потребителей, что сужало их возможности для скрытого монопольного сговора. Отступление от положений Директивы не исключалось, но в этом случае государство или энергетическая компания, отказывающаяся следовать общим правилам, становились изгоями. Занижая или завышая цены, нарушитель ставил под сомнение правила честной конкуренции и в других сферах сотрудничества ЕЭС, где цена вида топлива влияла на конечный продукт. Потребители после доступа к информации о ценах получили гипотетическую возможность выбирать наиболее выгодного поставщика энергии. На деле эта мера была направлена на выравнивание европейского энергетического рынка, куда входили государства с разным уровнем экономического развития.
Следующим шагом в процессе интеграции энергетических рынков стран – членов ЕЭС стали меры по повышению их доступности. В октябре 1990 г. была принята Директива № 90/547 ЕЭС, в которой шла речь о транзите электричества 3 , а в мае 1991 г. опубликована Директива № 91/296 ЕЭС, где говорилось о правилах транзита газа 4 . Тексты двух актов были фактически идентичны. Обе директивы были нацелены на то, чтобы сделать энергетический рынок Сообщества более прозрачным для поставщиков и потребителей. Согласно директивам, сделки по электричеству и газу не должны были наносить ущерб договаривающимся сторонам и влиять на качество поставляемых услуг, а условия транзита не должны носить дискриминационный характер. В спорах между сторонами третейским судьей выступала Еврокомиссия. Более того, в директивах было отмечено, что сотрудничество в развитии энергетической инфраструктуры приведет к сокращению материальных издержек, поможет привлечь дополнительные инвестиции и решить вопросы в области экологии 5 .
Директивы по транзиту были адресованы в первую очередь государствам – членам ЕЭС, но указания в них на газовые и электрические компании говорило о том, что последние также становятся субъектами европейского права. В новых условиях не только национальные правительства несут ответственность за проведение единой политики, но и энергетические компании этих стран. Усиливая регламентацию по отношению к членам ЕЭС, наднациональные органы Сообщества одновременно подавали сигнал активизировать свою деятельность на европейском рынке низовым структурам, которые собственно и занимались вопросами добычи, транзита и энергоснабжения. Таким образом, в энергетической вертикали ЕЭС появился еще один игрок, который находился под опекой не только национальных правительств, но и органов Сообщества. Все еще не имея рычагов прямого воздействия, Еврокомиссия стремилась опосредованно влиять на энергетические компании, работающие на территории ЕЭС, подталкивая их к сотрудничеству с партнерами из других стран Сообщества и потребителями энергоресурсов.
После подписания в 1992 г. Маастрихтского договора и образования ЕС члены Союза приступили к реализации нового этапа реформ. Серьезное внимание в рамках экономических преобразований уделялось энергетической сфере, влияние которой на другие отрасли было одним из определяющих 1 . В 1990-х гг. Евросоюз постарался закрепить достижения в развитии энергетики, которых достиг ранее, продолжая воздействовать на нее с помощью новых нормативных актов. Энергетическая политика включала серию мероприятий, направленных на расширение и укрепление единого рынка в рамках ЕС.
В этот период были приняты два документа, отразившие стремление членов Союза к переходу на новый уровень взаимодействия в области энергетики. В частности, в 1995 г. была опубликована Белая книга «Об энергетической стратегии Евросоюза» 2 , а в 1997 г. – Белая книга «Энергия будущего: возобновляемые источники энергии» 3 . Эти документы указывали в первую очередь на то, что странам ЕС удалось достичь большей степени интеграции в энергетической сфере, чего не получалось сделать ранее. Кроме того, в белых книгах были отражены основные направления деятельности Евросоюза на ближайшую перспективу, в т.ч. по вопросам энергобезопасности и либерализации энергетического рынка [Костицына, Костицына 2012: 48-49].
Следующим шагом стало принятие в 1996 г. Директивы № 96/92 ЕС «Об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии» 4 , а в 1998 г. – Директивы № 98/30 ЕС «Об общих правилах внутреннего рынка природного газа» 5 , которые составили так называемый «первый энергопакет» ЕС. Политика реагирования на развитие энергетики уступала место политике планирования, оставляя при этом широкие возможности для модернизации регулируемого и единого, а не стихийного и сегментированного энергетического рынка ЕС, который продолжал расширяться за счет вступления в Евросоюз новых государств.
Директива № 96/92 ЕС устанавливала правила в четырех сферах: генерации электроэнергии, ее розничных поставках, передаче и распределении, а также в раздельном назначении тарифов и регулировании цен. Целью Директивы было формирование действительно единого европейского рынка электроэнергии, который тра- диционно был поделен между национальными государствами. Другой целью была либерализация, направленная на повышение конкуренции, что, в конечном итоге, должно было привести к общему снижению цен на энергию для потребителей. Эти меры предполагалось осуществить за счет разделения крупных компаний – финансового обособления их подразделений, занимавшихся генерацией, сбытом, поставками и хранением электроэнергии1. Схожие принципы были заложены в Директиве № 98/30 ЕС, которая касалась либерализации рынка газа. Предполагалось, что через 5 лет после вступления Директивы в силу открытость рынка достигнет 38%, а через 10 лет – 43%2.
Европейские законодатели пытались разукрупнить энергетические компании Союза, разрушить их вертикальные связи и способствовать формированию горизонтальных, что в конечном итоге должно было привести к росту взаимодействия национальных энергетических рынков стран ЕС, обмену технологиями и инвестициями. Одновременно делались попытки сломать барьеры, когда национальные правительства защищали свои энергетические компании от возможной конкуренции со стороны партнеров по Евросоюзу, что мешало проводить не только внутреннюю политику, но и действовать на международной арене, выступая с единых позиций при подписании контрактов с поставщиками.
В последующие годы эти директивы были подвергнуты критике, т.к. не смогли помешать крупным компаниям обходить ограничения, нацеленные на либерализацию рынка. Не удалось разрушить монополии в газовой сфере и электроэнергетике, которые существовали в государствах ЕС. Возникли закономерные сложности с формированием на рынке новых компаний, которые могли бы составить конкуренцию уже действующим игрокам [Thomas 2005: 10-11]. Эти и другие сложности в процессе либерализации рынка привели к тому, что «первый энергопакет» перестал действовать после публикации в 2003 г. серии новых директив, сформировавших «второй энергопакет», а в 2009 г. – третий, действие которого затрудняет возможность договориться с поставщиками топливных ресурсов вне Евросоюза, к которым относятся Россия и страны Ближнего Востока.
Директивные методы регулирования энергетики сначала в ЕЭС, а затем в ЕС позволяли выделять наиболее важные направления развития отрасли и корректировать их, постепенно повышая уровень взаимодействия между государствами-членами. Спектр сфер, которые регулировались директивами, постоянно корректировался, что являлось отражением изменения приоритетов на энергетическом рынке Сообщества и мировой экономической конъюнктуры. Внутренние рынки нефти, газа и электричества с помощью мер директивного воздействия постепенно интегрировались. Все большую роль в этом процессе играли наднациональные органы Союза и национальные энергетические компании.
Список литературы Директивное регулирование энергетики ЕЭС и ЕС в 1960-х - 1990-х гг
- Володин О.Н. 2010. Основные правовые тенденции европейской интеграции в практике реализации энергетической политики ЕС: автореф. дис. … к.ю.н. М. 25 с
- Костицына К.В., Костицына А.А. 2012. Зарубежный опыт реформирования энергетики. Европейский Союз. -Вестник Удмуртского университета. № 2-3. С. 46-53
- Крылов А. 2015. Запрет на строительство АЭС в Венгрии может похоронить Евросоюз. -Взгляд. 13.03. Доступ: http://www.vz.ru/politics/2015/3/13/734255.html?oasas (проверено 14.03.2015)
- Thomas S. 2005. The European Union Gas and Electricity Directives. EPSU. 126 p