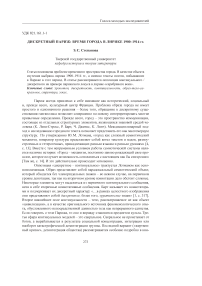Дискретный Париж: время города в лирике 1900–1914 гг.
Автор: Степанова Эвелина Сергеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме временного пространства города. В качестве объекта изучения выбрана лирика 1900–1914 гг., а именно тексты поэтов, побывавших в Париже в этот период. В статье рассматривается оппозиция континуального / дискретного на примере парижского локуса в лирике «серебряного века».
Хронотоп, дискретность, континуальность, образ-тело-сакральное, структура, локус
Короткий адрес: https://sciup.org/146122001
IDR: 146122001 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Дискретный Париж: время города в лирике 1900–1914 гг.
Париж всегда привлекал к себе внимание как исторический, социальный и, прежде всего, культурный центр Франции. Проблема образа города не имеет простого и однозначного решения – более того, обращение к дискретному существованию мегаполиса позволяет совершенно по-новому интерпретировать многие привычные определения. Прежде всего, город – это пространство коммуникации, состоящее из отдельных структурных элементов, являющихся знаковой средой человека (К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ч. Дженкс, К. Линч). Междисциплинарный подход к исследованию городского текста позволяет представить его как многомерную структуру. По утверждению Ю. М. Лотмана, «город как сложный семиотический механизм, генератор культуры представляет собой котел текстов и кодов, разноустроенных и гетерогенных, принадлежащих разным языкам и разным уровням» [4, с. 13]. Вместе с тем непременным условием работы семиотической системы является наличие истории: «Город – механизм, постоянно заново рождающий свое прошлое, которое получает возможность сополагаться с настоящим как бы синхронно» [Там же, с. 14]. И это действительно происходит мгновенно.
Oппозиция «дискретное – континуальное» трактуется Лотманом как основополагающая. Образ представляет собой парадоксальный семиотический объект, который обходится без членораздельных знаков – во всяком случае, на первичном уровне денотации, так как на вторичном уровне коннотации дело обстоит сложнее. Некоторые элементы могут выделяться из первичного континуального сообщения, неся в себе вторичные коннотативные сообщения. Барт называет их коннотатора-ми и подчеркивает их дискретный характер: «…в рамках целостного изображения они представляют собой дискретные; более того, эрратические знаки» [1, с. 317]. Второе важнейшее поле континуальности – тело, рассматриваемое не как объект «цивилизации», а в качестве оригинального источника феноменологического опыта, обусловленного непосредственной данностью тела как непрерывного единства. Если говорить о теле Парижа, то оно и вправду становится предметом культа. Третья сфера континуальных моделей – это сакральное. Сакральное не проистекает от богов, а вырабатывается в результате социальной концентрации, интеграции или наоборот катастрофической дезинтеграции группы. Последний вариант («жертвенный кризис», дезинтеграция общества) рассматривается особенно подробно в кни- гах Рене Жирара, таких как «Насилие и священное» (1970). Именно это происходит в городской среде. Социальные процессы можно помыслить как концентрацию/рас-сеяние непрерывных субстанций; сакральное как субстанциальный элемент религии оказывается противопоставлено ее формальному элементу – символическому, возникающему в ходе дискретных обменов и подмен.
В рамках этой оппозиции мы будем рассматривать пространство Парижа в лирических текстах. Сначала обратимся к парижским текстам М. А. Волошина. С 1901 года Волошин посещает Париж с целью самообразования, усиленно занимается в библиотеках. Полученные от поездок впечатления претворяются в творчество. Большое влияние оказала на Волошина художница М. В. Сабашникова, с ней связано увлечение оккультизмом, приведшее его к теософии. Дань этому интересу – цикл «Руанский собор». В эти же годы пишутся стихотворения, посвящённые Парижу. Обратимся к тексту 1902 года: «Осень... осень... Весь Париж, / Очертанья сизых крыш / Скрылись в дымчатой вуали, / Расплылись в жемчужной дали» [2, с. 27].
Лирический субъект наблюдает за городом. Его положение – «над» пространством. Город от него ускользает, субъект не видит его как целое. В каждое отдельное мгновение город оказывается недоступным: «В поредевшей мгле садов / Стелет огненная осень / Перламутровую просинь / Между бронзовых листов» [Там же]. От наблюдения «извне» лирический субъект переходит к наблюдению «изнутри». Странствие по садам демонстрирует континуальную изменчивость; обратим внимание на использование несовершенной глагольной формы, которая в следующих строках сменяется совершенной: «Вечер... Тучи... Алый свет / Разлился в лиловой дали: / Красный в сером – это цвет / Надрывающей печали» [Там же]. Субъект снова наблюдает за небом. Теперь он в позиции «внизу». Оппозиция солнца и его ухода, а точнее рождения и смерти, становится континуальной моделью: «Ночью грустно. От огней / Иглы тянутся лучами. / От садов и от аллей / Пахнет мокрыми листами» [Там же, с. 28]. Ночь сменила закат. Солнце окончательно скрылось. Создается впечатление, что субъект отгородился от города и теперь наблюдает за ним из какого-то замкнутого пространства. Континуальность торжествует над дискретностью за счет создаваемого образа объединения пространства: свет от огня – сады – аллеи – запахи .
Но в целом в этом тексте Париж Волошина дискретен. Позиция лирического субъекта не закреплена. Сначала он сверху, словно «бог» или «солнце», и как бы нисходит в пространство. Затем он проносится по садам и аллеям города, а потом прячется. Все три сферы континуального «образ-тело-сакральное» явлены, но столкновение разнородных моделей позволяет увидеть, что нечто цельное в тексте присутствует на всех уровнях, и это – временная последовательность. День сменяется вечерним закатом, а потом темной ночью. Именно такая последовательность является стержневой для текста, на ней держится вся триада континуального.
Текст Волошина «Дождь» 1904 года изображает Париж как развернутую метафору: «В дождь Париж расцветает, / Точно серая роза... <…> Тянут тысячи пальцев / Нити серого шелка, / И касается пяльцев / Торопливо иголка. // На синеющем лаке / Разбегаются блики... / В проносящемся мраке / Замутились их лики... <…> И на груды сокровищ, / Разлитых по камням, / Смотрят морды чудовищ / С высоты Notre-Dame...» [Там же, с. 26].
В начале мы видим город сверху, затем происходит сужение пространства: дождь, падающий на окна, прохожих и, наконец, касающийся растений и земли (камни). Дождь соединяет небо и землю. Когда происходит соприкосновение с зем- ной стихией, образ дождя приобретает статичность (капли превращаются в лужи), даётся резкая смена плана: мы видим всё с высоты Нотр-Дам. Дождь заканчивается, и Париж снова открывается нам с высоты собора. Париж и дождь – живые. Это явлено в олицетворении: тянут тысячи пальцев, проносящийся мрак, замутились их лики, глазки дождя, смотрят морды чудовищ. Дождь является связующим звеном между городом, людьми и природой.
Весь город умещается в один образ Нотр-Дам. Париж становится континуальным. В одно мгновение лирический субъект наблюдает за тем, как расцветает серая роза в образе собора. И снова субъект противопоставляет себя либо богу, либо солнцу и спускается с небес.
Теперь перейдем к тексту Мандельштама «Notre Dame» (1912), в котором описан Собор Парижской Богоматери: «Где римский судия судил чужой народ – / Стоит базилика – и, радостный и первый, / Как некогда Адам, распластывая нервы, / Играет мышцами крестовый легкий свод» [5, с. 39]. На острове Сите, где римляне судили галлов, стоит собор, прекрасный, как Адам в раю (Адам для акмеистов был первым поэтом, поэтому отсылка к нему бессмысленна с точки зрения сакрального в целом, но это – сакральный образ для лирического субъекта). И в самом деле, мы можем заметить: «Notre Dame» – стихотворение о храме, но это не религиозное стихотворение. Лирический субъект смотрит на храм не глазами верующего, а глазами мастера, строителя, которому неважно, для какого бога он строит, а важно только, чтобы его постройка простояла долго. Notre Dame – наследник трех культур: галльской (чужой народ), римской (судия) и христианской: «Но выдает себя снаружи тайный план! / Здесь позаботилась подпружных арок сила, / Чтоб масса грузная стены не сокрушила, / И свода дерзкого бездействует таран» [Там же].
Вода давит на стены вертикально, вниз, и в стороны; но «дерзким» назван свод скорее из-за его вертикального устремления снизу вверх, к готическому шпилю, укалывающему небо (выражение самого Мандельштама); а метафорический таран мы представляем себе бревном, не вертикально, а горизонтально бьющим в стену или ворота. Здесь эти три разнонаправленных образа стеснились: «Стихийный лабиринт, непостижимый лес, / Души готической рассудочная пропасть, / Египетская мощь и христианства робость, / С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес» [Там же].
Пропасть – это нечто иррациональное, не поддающееся объяснению. Здесь же это пространство рационально, оно устроено человеческим рассудком. Стихийный лабиринт и непостижимый лес – это те пропасти, в которые по собственной воле падёт человек. Символ леса неспроста возникает в тексте. Он пересекается с образом храма, созданным Ш. Бодлером в сонете «Соответствия». «Египетская мощь» и «христианства робость» – тоже контраст: христианский страх Божий неожиданно побуждает возводить постройки не смиренные и убогие, а могучие, как египетские пирамиды. В тексте Мандельштама тростинка – символ христианства, вырастающего из иудейства: «Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, / Я изучал твои чудовищные ребра, / Тем чаще думал я: из тяжести недоброй / И я когда-нибудь прекрасное создам» [там же]. Лирический субъект вдохновлен Собором, но с надеждой смотрит в будущее, с целью построить что-то столь же великое.
В тексте Мандельштама также соотносятся три уровня континуального. Это можно заметить даже в первой строфе – тело Адама, образ играющего мышцами свода и сакральный образ базилики. Все эти уровни континуальны, но вместе с тем тяготеют к дискретной модели, т.к. их соположение становится сочетанием эрратических знаков.
Если сравнивать образ собора у Волошина и Мандельштама, то становится ясно – это совершенно разные конструкции. Различны наблюдатели: у Волошина – мертвый, у Мандельштама – живой. В тексте «Дождь» собор – это нечто прекрасное, мимолетное, как роза, которая замечательна в одно мгновение, пока идет дождь. У Мандельштама же образ базилики прекрасен вот уже целую вечность. Лирический субъект в тексте Мандельштама постоянно меняет свою позицию. Он не статичен, это касается как пространства, так и времени. Сначала он внутри собора и изучает легкий свод, затем снаружи, потом снова внутри и опять снаружи. Сначала он в прошлом, там, где не было еще собора, затем в настоящем, а потом устремлен в будущее. Само пространство континуально – оно сохраняет нашу триаду «образ-те-ло-сакральное», но время в тексте Мандельштама становится дискретным.
И, наконец, обратимся к сонету Вяч. Иванова: «Обуреваемый Париж! Сколь ты священ, / Тот видит в облаке, чей дух благоговеет / Пред жертвенниками, на коих пламенеет / И плавится Адам в горниле перемен» [3, с. 566].
Город – нечто недосягаемое и священное для лирического субъекта. Он знает, что Бог наблюдает за Парижем. Город – это божье творение, как и Адам. Он готов к жертве, он свят. Вновь возникает триада «образ-тело-сакральное»: «образ Парижа – тело Адама – дух, что благоговеет «пред жертвенниками».
Париж многогранен. Здесь множество направлений и идей. Он меняет свой облик и рождает великих людей. Это длится издавна и продолжается до сих пор. Париж всегда будет творить особенных личностей. Он притягивает их и становится домом. Континуальная модель остается, то несколько модернизируется. Теперь перед нами множество тел, которые и создают мгновенный образ Парижа, а сакральный дух превращается в призрака, который и символизирует все тела континуального. Здесь виден пример того, как все три составляющие этой модели действительно сливают в одно целое: «И демон мыслящий звездой затменной тает: / Крутится буйственней, чем вавилонский столп, / Безумный легион, как дым, безликих толп» [Там же].
Городу присуще и безумие. Помимо светлой и разумной стороны города, всегда есть безликая масса. Так лирический субъект подчеркивает особенности людей, входящих в историю и творящих ее.
Текст Иванова сложен. Поэт придумывает новые слова, которые переделывает из французского – «эворий» и «эбон»; благодаря библейским отсылкам он подчеркивает святость города, нагромождение имен знаменитых сынов Парижа определяет временную линию – всегда, в любое время, во все годы и века, этот город будет пристанищем для светлых умов. Для лирического героя Париж словно рай, где можно творить и развиваться.
Городской текст в лирике всегда предполагает наличие системы, в которой иерархически соотносятся различные уровни. Но в художественных, публицистических, критических текстах, посвященных городу, Парижу, эта система не всегда присутствует в полном объеме. Тогда и возникает необходимость говорить об образе (образах) Парижа, в которых репрезентируются те или иные аспекты города. В то же время взятые в совокупности образы Парижа, присутствующие в текстах разных авторов, могут составить указанную систему.
Три области применения континуальных моделей (образ-тело-сакральное) в гуманитарных науках заставляют предположить, что дуализм континуального / дискретного может считаться важнейшей оппозицией человеческого мышления. Эта оппозиция отчетливо видна в представленных текстах: дискретное и континуальное идут рука об руку, заменяя друг друга. Порой время континуально, а пространство дискретно, порой – наоборот. Это позволяет сделать вывод, что визуальные или акустические образы воспринимаются человеком как целостные образования, без разрывов или количественно исчислимых членений; отсюда трудность их анализа с помощью структуральных категорий.
Список литературы Дискретный Париж: время города в лирике 1900–1914 гг.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
- Волошин М. Избранные стихотворения. М.: Сов. Россия, 1988. 384 с.
- Иванов Вяч. И. Собр. соч.: в 4 т. Т. 3. Bruxelles: Foyer Oriental Chretien, 1979. 913 с.
- Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города//Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 2. Статьи по истории русской литературы XVIII -первой половины XIX века. Таллинн: Александра, 1992. С. 9-21.
- Мандельштам О. Э. Камень. Л.: Наука, 1990. 398 с.