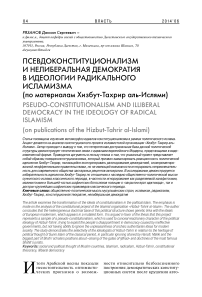Дискурс и повседневность
Автор: Рязанов Александр Владимирович, Фролова Светлана Михайловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 6, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу взаимосвязей между дискурсом и повседневностью. Дискурс рассматривается, с одной стороны, как производная повседневности. С другой стороны, показано, что он может обладать творческим началом, преобразующим саму повседневность и существующих в ней людей. Показаны эволюция и особенности функционирования различных ныне существующих дискурсов. Отмечены основные направления дискурсивного воспроизводства власти. Прослежены основные тенденции взаимодействия дискурса и повседневности.
Дискурс, повседневность, социокультурное изменение, повседневные коммуникации, дискурс власти, взаимодействие дискурса и повседневности
Короткий адрес: https://sciup.org/170167513
IDR: 170167513
Текст научной статьи Дискурс и повседневность
Итоги Арабской весны показали несостоятельность оптимистических прогнозов о возмож- ности относительно безболезненного построения демократических конституционных систем после крушения авто- ритарных режимов в странах Большого Ближнего Востока. Происшедшее усиление исламистских движений ставит вопрос не только о возможности демократического развития обществ мусульманского мира, но и о цивилизационной специфике ценностей Модерна в данном регионе.
Образ исламистских движений, создаваемый медиа, как единой волны, грозящей смести конституционные системы региона, не соответствует действительности. С момента появления в Арабском мире в 1861 г. первой писаной конституции (Основной закон бейлика Туниса) [Brown 2002: 16] по сей день конституционализм является точкой соприкосновения многих политических сил стран Востока – как либерально-секуляристских, так и исламистских. И если в конце XIX – начале ХХ вв. модернисты бились против консервативных богословов, осуждавших конституции, то уже некоторое время спустя конституционализм стал значимым элементом и исламистского дискурса, о чем свидетельствуют работы его основоположников – Хасана аль-Банна [Mossailli 1993: 170-171] и Абуль ала-Маудуди, который с привлечением мусульманских богословов различных направлений и школ инициировал в 1951 г. разработку Основных принципов исламского государства, заложивших вехи исламского конституционализма [Maududi n.d.: 26, 331-336].
К настоящему времени именно исламистские движения региона стали основной движущей силой конституционной теократии – правового и политического порядка, являющего собой «пересечение этих двух стремительных трендов: громадного роста общественной поддержки принципов теократического правления и глобального распространения конституционализма» [Hirschl 2010: 3].
Данная тенденция находит свое проявление и в доктринальной базе радикальной транснациональной исламистской организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения, далее – ПИО), основатель которой шейх Таки ад-Дин ан-Набхани в 1953 г. составил свой «конституционный» проект.
Выстраивая аргументацию на утверж- дении об исчерпывающем характере предписаний Корана и Сунны по поводу устройства системы публичной власти, последователи ПИО считают, что у неверных все-таки могут быть заимствованы отдельные «административные законы», которые якобы «не выражают определенную точку зрения на жизнь». К их числу адепты ПИО парадоксально относят и основной закон государства – конституцию. При этом оговаривается, что исламская конституция принципиально отличается от европейских тем, что ее источником являются не человеческие соображения, а Коран и Сунна, и принимается она не «учредительными собраниями», «избираемыми народом, палатами депутатов», а «образуется иджтихадом муджтахидов, и из числа этих иджтихадов халиф принимает определенные законы» [Набханий 2001б: 47, 48].
Ан-Набхани дает описание особой юридической техники оформления такой конституции: «…должно иметься введение, которое ясно объясняет тот мазхаб, из которого взята каждая статья, а также объясняет доказательство, на которое опирается мазхаб. Если же статья выведена посредством правильно выполненного иджтихада, то введение должно иметь разъяснение доказательства, из которого выведена статья» [Набханий 2001б: 49]. Однако проект, предложенный самим палестинским шейхом, данным требованиям не удовлетворял и представлял собой по форме стандартную структуру, состоящую из 186 статей без каких-либо богословских пояснений [Набханий 2001б: 58-60].
В качестве следствия постулата об исламском вероучении как единственной основе законодательства аргументировалось отрицание гражданских прав и свобод, которые в конституционном проекте ан-Набхани не упоминались, а в других документах ПИО подвергались критике [Набханий 2001б: 19]. Обращает на себя внимание очевидно карикатурное понимание прав и свобод человека, проявляющееся в работах идеологов ПИО, рассматривающих указанные концепты как освобождение от какой бы то ни было ответственности без учета сложности и исторической изменчивости теории гражданских прав, их ограниченного характера, наличия опыта их сочетания с исламом (как в его относительно радикальной интерпретации в случае Хасана Тураби [Hamdi 1998: 70-71], так и в достаточно умеренной у составителей Даккской декларации по правам человека в исламе 1983 г.). Они «считают, что фундаментальные права и свободы в соответствии с исламом являются неотъемлемой частью исламской религии (веры) `…` они являются обязательными божественными повелениями» [Жданов 2003: 362].
Отрицание гражданских свобод в случае ПИО соседствует с требованием правового равенства «независимо от религии, расы, цвета кожи», запретом дискриминации, в т.ч. в вопросах правосудия и управления обществом (ст. 6 проекта ан-Набхани). Однако эгалитаризм деклараций не подтверждается содержанием императивных норм, признающих рабство, запрещающих нему-сульманам занимать государственные посты (ст. 19), быть судьями (ст. 69), полноправными членами маджлисов (ст. 103), участвовать в выборах халифа (ст. 26), а также ущемляющих их в родительских правах (ст. 118), правах на учет этноконфессиональных особенностей в системе образования (ст. 172).
Образец государства ПИО – персоналистский режим, во главе которого стоит халиф, обладающий всей полнотой власти (ст. 37), – несменяемый лидер (ст. 34), олицетворение государства (ст. 35), полномочия которого ограничиваются лишь шариатом (ст. 36). При этом халиф рассматривается в качестве верховного толкователя шариата, что делает его полномочия, по сути, беспредельными.
Содержащиеся в документе намеки на систему сдержек и противовесов в виде права судов отстранять халифа от власти (ст. 40 и 82) нивелируются полномочиями халифа по самовольному изменению конституции и назначению судей, хотя ранее упомянутый Маудуди доказывал, что глава исламского государства не должен быть наделен подобным правом и придавал большое значение реализации принципа разделения властей [Maududi n.d. 325, 319]. Хасан Тураби также демонстрировал иное видение исламской политики, акцентируя внимание не на фигуре халифа, а на принципе «шура» (совет) как центральном прин- ципе политического правления, легитимирующем его концепт, и предлагая широкое использование демократических институтов в системе исламского государства [Tønnessen 2009: 313-329].
Проект ПИО предполагает избрание халифа посредством прямых выборов мусульманами – гражданами исламского государства (ст. 33), что в корне отличается от позиции суннитских правоведов классического периода, которые в качестве субъектов избирательного права понимали лишь «людей выбора» (ахль аль-ихтийар), «людей, имеющих право развязывать и связывать» (ахль аль-халль валь акд) – авторитетнейших знатоков религиозного закона, сановников. Причем ведущие средневековые юристы (например, аль-Маварди и аль-Джувайни) утверждали возможность осуществления выбора халифа всего одним человеком из числа имеющих на это право [Туманян 2009: 58, 83, 84, 103, 120, 330]. Одним из немногих средневековых направлений общественной мысли Востока, разделявших идею о праве каждого мусульманина участвовать в выборах халифа, являлись хариджиты, в некоторых группах которых не только все свободные мусульмане мужского пола участвовали в выборах главы общины, но иногда даже требовалось единодушное согласие избирателей по поводу утверждения той или иной кандидатуры (например, надждийиты) [Crone 2005: 59-61].
Требование избирательных прав в сочетании с отрицанием западной демократии, которая характеризуется как запретная для мусульман «система неверия» [Набханий 2001а: 152], представляет проект ПИО в качестве своеобразной «нелиберальной демократии» – системы, где синкретично существующие в европейских странах конституционализм, либерализм и демократия существуют раздельно и антагонистичны друг другу [Закария 2004: 123-170].
Подводя итоги рассмотрения элементов конституционализма в идеологии ПИО можно прийти к следующим выводам.
-
1. Наблюдаемые в случае ПИО попытки соединить архаичный социальный идеал и конституционные формы его закрепления, политикоправовая эклектика институтов автори-
- тарного правления и демократических начал демонстрируют гетерогенность идеологии данной организации, генетические связи всего исламизма с идеалами европейского Модерна, которые, будучи имплантированы в инокультурную среду, приспособившись и оказывая серьезное влияние на общественное сознание, иногда предстают в одеждах мусульманского богословия.
-
2. Заимствование западных конституционных формулировок при декларировании идеологами ПИО уважения к масхабам (и особом пиетете к шафиизму, которого придерживался ан-Набхани) сопровождается неаргументированным игнорированием как разделяемой хана-фитскими, маликитскими и большей частью шафиитских богословов теории о «закрытии врат иджтихада», так и доктрин крупнейших шафиитских правоведов классического периода.
-
3. Проект ПИО, в отличие от идей умеренных исламистских организаций, представляет собой образец псевдо-
- конституционализма, что проявляется в отрицании прав и свобод граждан, защита которых и является главной целью и ценностью классического конституционализма, нацеленности на формирование персоналистского режима – ничем не ограниченной власти, прикрываемой «фиговым листком» основного закона.
-
4. Псевдоконституционализм ПИО призван замаскировать авторитаризм политического проекта, эксплуатирующего разочарование демократией, скомпрометированной неэффективными правительствами, но не способного игнорировать непривлекательность для современного общества застарелых рецептов автократии.
Идеология исламизма позволяет взглянуть на либеральные ценности по-новому, выявить неочевидные взаимосвязи и, углубив свое понимание фундаментальных основ, обрести новые ориентиры развития политико-правовых структур постсовременного мира.