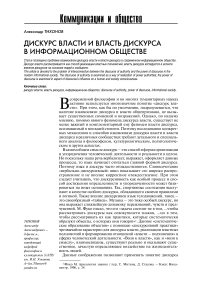Дискурс власти и власть дискурса в информационном обществе
Автор: Тихонов Александр Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Коммуникации и общество
Статья в выпуске: 7, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме взаимосвязи дискурса власти и власти дискурса в современном информационном обществе. Дискурс власти рассматривается как способ реализации властных полномочий, власть дискурса исследуется в аспекте влияния дискурсов на сознание людей и сообществ.
Дискурс власти, власть дискурса, информационное общество
Короткий адрес: https://sciup.org/170167022
IDR: 170167022
Текст научной статьи Дискурс власти и власть дискурса в информационном обществе
В современной философии и во многих гуманитарных науках активно используется многозначное понятие «дискурс власти». При этом, как бы по умолчанию, подразумевается, что наличие взаимосвязи дискурса и власти общепризнано, не вызывает существенных сомнений и возражений. Однако, по нашему мнению, помимо явного феномена дискурса власти, существует не менее важный и комплементарный ему феномен власти дискурса, осознаваемый в меньшей степени. Поэтому исследование конкретных механизмов и способов взаимосвязи дискурса власти и власти дискурса в различных сообществах требуют детального и специального анализа в философском, культурологическом, политологическом и других аспектах.
В самом общем смысле дискурс – это способ и форма организации и упорядочения человеческой деятельности и реальности в целом. Но поскольку наша речь вербализует, выражает, оформляет данные процессы, то язык начинает считаться главной формой дискурса. Поэтому язык и дискурс часто отождествляются. Словосочетание «вербально-дискурсивный» явно показывает это широко распространенное и не вполне корректное отождествление. При этом следует учитывать, что дискурсивность как особый процесс и способ достижения определенности и упорядоченности может базироваться на иных основаниях. Так, спортивные состязания выступают в качестве особого дискурса, обладающего своими правилами и логикой. Также вполне дискурсивен язык телодвижений, танец – это своеобразный «тайнец». Музыка – это тоже особый дискурс, но она выражает сложнейшую динамику переживаний, чувств и предчувствий. М. Фуко писал, что его «задача состоит не в том, …чтобы рассматривать дискурсы как совокупности знаков, …но в том, чтобы рассматривать их как практики, которые систематически образуют объекты, о которых они говорят»1. Данное «систематическое образование объектов» с помощью «дискурсивной практики» чрезвычайно характерно для дискурса власти, реализации властных полномочий и формирования отношений «власти – подчинения» в сферах человеческой деятельности. «Воля к власти», как и «воля к смыслу», взаимосвязаны, существуют реально и оказывают существенное, зачастую определяющее воздействие на жизнедеятельность людей.
Данные соображения позволяют применять понятие дискурса не только к вербально-дискурсивной деятельности, но и к самым разнообразным формам социокультурной деятельности человека и общества. При этом язык не только выражает или проявляет дискурс, но и может вступать с ним в самые различные отношения.
В большинстве словарей власть понимается как особый социальнопсихологический, политический и экономический феномен, определяющий систему господства и подчинения в различных сообществах, предполагающий оформление властных отношений, наличие субъекта и объекта власти, центра и источника власти и т.п. Следует отметить, что практически невозможно выработать и эксплицировать исчерпывающее определение власти.
Дискурс власти как особая семиотическая система тесно связан с демонстрацией реалий и символов, выражающих социальный статус и полномочия субъекта или агента власти. Любой дискурс при этом обладает определенными возможностями властного воздействия на людей, и любая власть проявляется в дискурсе, в демонстрации своей значимости. Эта демонстрация власти и ее могущества осуществляется в различных сферах общественной жизни с помощью многих средств, способов, символов и т.п. К внешним формам такой демонстрации можно отнести использование униформы в армии, полиции, прокуратуре и других государственных структурах. Человек, облаченный в униформу со знаками отличия, воспринимается не как конкретный индивид, а как носитель властных полномочий, выразитель государственных интересов. Внешними формами дискурса власти могут быть не только мундиры и мантии судей, но и целый ряд символов – от короны, скипетра и державы до медалей, орденов и т.п. В современной России, как известно, номера автомобилей и «мигалки» также выступают как выражение дискурса власти, но в опошленном, карикатурном виде. В качестве фундаментальных проявлений дискурса власти выступают политическая воля, программы партий, социально-экономические реформы и другие важнейшие факторы и формы деятельности субъектов политики. В современном обществе дискурс власти реализуется главным образом в рациональном администрировании, т.е. в бюрократическом управлении. Процессы информатизации, компьютеризации и т.п. способствуют развитию и широкому распространению подобного администрирования.
Проблемы осуществления политической власти, ее приемы и технологии со времен Платона и Аристотеля рассматривались на протяжении столетий многими философами, учеными и политиками. Аристотель во многом был прав. Человек действительно по своей природе «животное политическое». Уже на этих архаических стадиях можно увидеть взаимосвязи дискурса власти и власти дискурса. В дальнейшей эволюции «первобытные» коллективы, роды, племена и т.п. широко применяли различные виды и формы собственно дискурсивных практик – от шаманских заклинаний, мистерий и изучения мифологии в процессах инициации до советов вождей и старейшин, принимающих судьбоносные решения. Власть на этих этапах развития общества не была отчуждена и не была поставлена над сообществом как высшая и трансцендентная сила. Коллективный разум и интуиция как выражение «коллективного бессознательного» опыта сообществ были, по всей видимости, реальным источником и субъектом принятия властных решений. Дискурс власти и власть дискурса были органически связаны и взаимообусловлены. Длительное доминирование мифологического сознания как особой власти дискурса во многом определяло характер дискурса власти. Мифические герои, такие как Тесей, Персей, Одиссей и др., были не только носителями властных полномочий, как правило, басилеями – военными вождями, но и по своему происхождению считались прямыми потомками богов и древних героев. Легитимность и действенность дискурса их власти определялись фактически как их выдающимися интеллектуально-волевыми способностями, так и властью мифологического дискурса, воспринимаемого их соплеменниками, как правило, внерационально.
В период «зрелой» античности при институционализации власти, формировании государства и его публичных органов власть не только доминирует над сообществом как управляемым объектом, но, как правило, и сакрализуется. Любая власть – от Бога, «Богу – богово, кесарю – кесарево». Такое понимание природы власти характерно для длительного периода в истории человечества и сохраняется ныне во многих странах и культурах.
Индустриальная цивилизация неизбежно широко воспроизводит научную, логически и эмпирически обоснованную рациональность в ее классической форме. Субъект познания и субъект власти дистанцируются от реальности, становятся над действительностью, постигают, «вырабатывают» и эксплицируют законы, которым подчиняются и следуют объекты познания, а также подвластные социальные группы, люди, отношения и т.п. Век Просвещения, во многом совпадающий с ранними этапами развития индустриальной цивилизации, привел к возникновению целого «пакета» философских учений, наиболее значимые из которых определяются как разновидности философии сознания. Дискурс власти в контексте философии сознания рассматривается в качестве своеобразной вторичной реальности, производной от власти дискурса, от разумного общественного договора, от деятельности сознания и достижений науки, рационального мировоззрения. Не случайна популярность платоновской мифологемы просвещенного монарха в эпоху Просвещения и в последующие столетия.
Информационное, или постиндустриальное, общество возникает, как известно, в конце ХХ и начале ХХI в. и продолжает развиваться опережающими темпами в высокоразвитых странах. Многие аспекты и тенденции развития информационного общества описаны в работах Э. Тоффлера, Й. Масуда, Д. Белла, М. Кастельса и других современных мыслителей. В самом общем плане эти ученые и философы описывают реальный рост значения в жизни современного общества процессов производства, распространения и применения информации. В этом обществе «третьей волны», по мнению Э. Тоффлера, на смену централизации и массовизации приходят противоположные тенденции – деконцентрации, децентрализации, дестандартизации, информатизации и т.п. В политической сфере в большинстве стран на смену жесткому централизованному дискурсу власти приходят более скрытые и изощренные формы управления в виде власти дискурса. Это определяется целым рядом обстоятельств и факторов.
Во-первых, декларируемыми многими странами в их конституциях и законах идеями демократии, свободами и правами граждан этих стран. На международном уровне эти права и свободы выражены во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.
Во-вторых, как показывает исторический опыт, насилие и ограничение свободы человека в различных сферах его жизнедеятельности ведет, как правило, к снижению мотивации деятельности, эффективности работы, к негативным социальным и психологическим последствиям. Поэтому даже при реальном отсутствии или существенном ограничении свободы граждан правящие классы и элиты вынуждены создавать видимость свободы и активно пропагандировать эту видимость с помощью масс-медиа, идеологии как особой власти дискурса, навязываемого всему сообществу. Дискурс власти как основная опора режима нуждается в своеобразной дополнительной опоре – «второй ноге», т.е. власти дискурса. В условиях информационного общества этот фактор изменяет восприятие реальности и приобретает важную, подчас определяющую роль для стабильности власти.
В-третьих, в информационном обществе большую роль играет повсеместность и общедоступность среднего и высшего образования, не только формирующего у людей систему знаний и преимущественно научную картину мира, но и закладывающего основы рационального, критического мышления, стремление к самостоятельности, свободе мнений. Рациональное мышление, как правило, десакрализует сам феномен власти, низводя ее «с небес на землю».
В качестве других факторов следует указать на компьютеризацию многих сфер жизни людей, формирование массовых «сетевых сообществ», во многом альтернативных государству и его институтам, взаимодействие различных религий, идеологий, эзотерических практик, молодежных субкультур и т.п. Особую роль играет распространение информации по Интернету как особой «зоне свободы», стоящей вне «силовых линий» господствующего дискурса власти и над ним, несмотря на многократные попытки поставить ее под контроль государства. Из всего этого следует вывод о принципиальном изменении соотношения дискурса власти и власти дискурса в информационном обществе. Все «силовые акции» и попытки управлять современными сообществами с помощью насилия обречены, как минимум, на неэффективность. Еще Наполеон сказал, что с помощью армии и штыков можно захватить власть, но «сидеть на штыках невозможно».
В общетеоретическом плане взаимосвязь дискурса власти и власти дискурса можно понимать в узком и традиционном плане взаимодействия политики и идеологии, государства и гражданского общества, материальной и духовной культуры. Однако смысловой контекст проблемы взаимосвязи дискурса власти и власти дискурса более широк и в этом плане тяготеет не к политологической, а к философской проблематике. Дело в том, что категория власти по своему объему и содержанию более обширна и многогранна по сравнению с политикой и государством. Власть, как известно, может быть светской и духовной, патриархальной и династической, олигархической и номенклатурной. Так же и в отношении отличия политической идеологии от власти дискурса следует заметить, что идеология обычно выражает интересы определенных социальных групп, классов, сообществ и ее содержанием являются отдельные доктрины, учения, мифологемы и т.п. Как правило, многие разделы науки, такие как логика, математика, физика и т.п., в состав идеологии не включаются, однако их содержание и их претензии на объективную истинность, апо-диктичность, точность и обоснованность позволяют рассматривать их в качестве наиболее выраженного проявления власти дискурса, т.е. определенной принудительности и убедительности в восприятии и усвоении знаний и «логики» подобных дисциплин. Другими примерами власти дискурса служат религиозные учения, мифологемы, архетипы коллективного бессознательного, современные мемы и мемплексы как «вирусы сознания» и прочие подобные «продукты», матрицы и формы когнитивной деятельности человека, сообществ и человечества в целом.
В качестве основных можно выделить 3 способа властного управления или манипуляции людьми и сообществами. 1-й способ – принуждение и прямое насилие. Оно носит упрощенный и принудительный характер, направлено на дости- жение внешнего контроля и управления поведением человека и сообщества. 2-й способ – управление и манипуляция потребностями, интересами и мотивами жизнедеятельности человека и сообщества в целом. В этом способе органически сочетаются внешние и внутренние аспекты манипуляции как поведением, так и сознанием. Основные рычаги подобного воздействия хорошо известны – это экономические интересы, социальные мотивы, престижные потребности и т.п. 3-й способ манипуляции обращен на внутренний мир человека, на содержание и динамику развития сознания, сферу ценностных ориентаций, идеалов, убеждений и т.п.
Сфера действия дискурса власти, конечно же, распространяется на все 3 основных способа управления, однако в большей мере она характерна для «внешних» – 1-го и 2-го способов манипуляции. Власть дискурса, напротив, наиболее присуща 3-му способу – манипуляции сознанием и виртуализации, характерным для информационного общества.
Общая «природа» политической власти, представляющей собой своеобразный силовой скелет общественного организма, состоит не столько в прямом насилии, сколько в необходимости мобилизации ресурсов, управлении различными сферами общественной жизни для достижения как явных, провозглашаемых в рационализированной идеологии, так и неявных, скрываемых и подразумеваемых целей и ценностей реальных субъектов политики – правящих классов, партий, элит, лидеров и т.п. Однако, как уже отмечалось, информационная цивилизация существенно преобразует обе стороны власти – активную и пассивную, а также меняет соотношение дискурса власти и власти дискурса. При возрастании роли информации, разума, креативных способностей человека насильственные способы управления, принуждение в его явном виде не исчезают полностью, они как бы сдвигаются в периферийные, маргинальные зоны общественной жизни и даются под контроль и «на откуп» силовикам и правоохранительным органам государства. Власть активно и явно использует социокультурные и экономические механизмы побуждения, развития у людей мотивации к деятельности, необходимой для государства и общества.
Но для повышения их эффективности и массовости целесообразно использовать средствамассовойинформации,обладаю-щие высоким пропагандистским и мотивационным потенциалом. Эти формы информационно-манипулятивной деятельности особенно характерны для тоталитарных и авторитарных режимов.
Информационное общество не может существовать и развиваться без достаточно высокого уровня развития человека как субъекта познания, получающего и производящего информацию. Поэтому прямой обман, массовая дезинформация как средства и способы манипулятивного дискурса власти неэффективны и преходящи. По нашему мнению, более действенным и распространенным способом управления сообществом становятся особые технологии деформации субъектности социума, формирование с помощью власти дискурса превратных и ложных идентификаций у многих людей – от их простого отождествления с героями телесериалов до принятия идей национализма, эзотеризма, бисексуализма и т.п. Превратное сознание и ложные идентификации превращают человека в марионетку СМИ, в удобный объект политтехнологий. Данная проблематика имеет прямое отношение к теме нашей статьи, но требует специальных и глубоких исследований.
Для нашей страны несомненна важность и актуальность философского осмысления исторического опыта России, извлечения необходимых «уроков истории», поскольку многовековая повторяемость и даже цикличность разнообразных форм деспотизма, «смутных времен», войн и революций поневоле вызывает у многих людей чувство безнадежности и «исторического пессимизма». Однако власть данного негативного дискурса должна быть преодолена. Возросшее могущество и кризисный характер развития современной информационной цивилизации многократно увеличивают опасности и негативные последствия ошибочных действий и непродуманных решений власти в политической и других сферах общественной жизни. Поэтому необходимость комплексного осознания исторических процессов не только сохраняется, но и значительно усиливается.