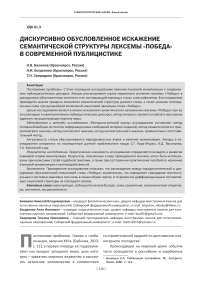Дискурсивно обусловленное искажение семантической структуры лексемы "победа" в современной публицистике
Автор: Бизюков Н.В., Богданова А.И., Свиридова Т.Н.
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Статья посвящена исследованию явления языковой манипуляции в современном публицистическом дискурсе. Авторы рассматривают утрату первичного значения лексемы «Победа» в дискурсивно обусловленном контексте и ее последующий переход в статус слов-мифогенов. В исследовании проводится анализ процесса искажения семантической структуры данного слова, а также указаны потенциальные семы при дальнейшей возможной смысловой эволюции слова «Победа». Целью исследования является анализ искажения семантического наполнения лексемы «Победа» при ее актуализации в манипулятивном публицистическом дискурсе, автор которого стремится навязать массовому адресату несуществующую картину мира. Методология и методы исследования. Методологический корпус исследования составляют метод сплошной выборки из текстов информационных сообщений интернет-изданий, метод семантического и прагматического анализа, метод логического анализа, метод контекстуального анализа, сравнительно-сопоставительный метод. Актуальность статьи обусловливается неразрывностью языка и явления манипуляции. Авторы в исследовании опираются на посвященные данной проблематике труды С.Г. Кара-Мурзы, А.Д. Васильева, Г.А. Копниной и др. Результаты исследования. Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в развитие языковой теории манипуляции. Результаты, полученные в ходе проведенного анализа, могут быть использованы при написании статей подобной тематики, а также при составлении практических пособий по изучению языковой манипуляции и противодействию ей.
Манипуляция, публицистический дискурс, сема, семантика, семантическая структура, контекст, микроконтекст
Короткий адрес: https://sciup.org/144163327
IDR: 144163327 | УДК: 81.3
Текст научной статьи Дискурсивно обусловленное искажение семантической структуры лексемы "победа" в современной публицистике
П остановка проблемы. Говоря о глобализации, явлении XXI в. [Бубнова, 2023, с. 13], в первую очередь ее подразумевают как продукт западного мира, цель которого - захватить мировое лидерство и выстроить остальное человечество в соответствии со стратегической задачей по достижению планетарного господства1.
Происходящие на мировой арене события часто освещаются в российских и зарубежных
СМИ. При этом проблема необъективного изложения не теряет своей актуальности, поскольку язык и внушение (т.е. манипуляция) тесно связаны: информация неизбежно преподносится массовому адресату с некоторой оценкой.
Целью настоящей статьи является анализ искажения смыслового наполнения лексемы «Победа» при ее переходе из парадигматики в манипулятивный публицистический дискурс, задача которого - навязать массовому адресату иллюзорную картину мира, выгодную субъекту речи.
Методология исследования. Для достижения поставленной цели и решения сопутствующих ей частных задач были применены метод сплошной выборки из 115 статей политической направленности; также использовались сравнительно-сопоставительный метод, метод логического анализа, метод контекстуального анализа, метод семантического анализа, метод прагматического анализа.
Обзор научной литературы. Теоретической основой настоящей статьи выступают труды С.Г. Кара-Мурзы, А.П. Чудинова, А.Д. Васильева, Г.А. Копниной. На отдельных этапах исследования использовались работы Н.С. Громовой, К.А. Левковской, Ю.С. Игнатовой, А.Н. Забродиной и др.
Для достижения поставленных целей вне поля боя политические деятели ведут информационную войну, прибегая, в частности, к публицистическому дискурсу (далее - ПД), неотъемлемой функцией которого наравне с информационной и социализирующей является [Бакина 2023, с. 39] один из действенных приемов реализации коллективно-регулятивной или манипулятивной функции ПД [Евсеева, 2024, с. 3]. Это намеренное создание семантической размытости ключевых понятий, отрицательно сказывающейся на понимании обрисовки ситуации, под определенным углом и далее в целом. Вероятность успеха всегда достаточно высока, поскольку далеко не все рядовые получатели информации способны мыслить критически, логически обдумывать картину окружающей действительности, преподносимую публицистическим дискурсом, и проводить семантический и прагмати- ческий анализ языковых средств, наполняющих ПД. Выстроенное речевое окружение определяет содержания высказывания, «...контекстуальная миграция формирует “предзаданное поле коннотаций”» [Громова, 2023, с. 69], происходит актуализация деструктивных смыслов, и языковое противодействие манипулятору снижается либо утрачивается.
Результаты исследования . Для четкого донесения до аудитории содержания дискурса и ясного понимания его содержания необходимо однозначное толкование ключевых слов. Настоящий тезис применим к научному дискурсу, в котором точность и конкретика необходимы, хотя «точность и однозначность термина – это лишь тенденция, идеал, к которому должна стремиться всякая терминология» [Игнатова, 2023, с. 106; цит. по: Левковская, 1959, с. 357]. Утрата четкой семантики в ПД происходит гораздо ярче, поскольку в нем нет научности и авторы ПД не стремятся к соблюдению лингвистических требований. Из науки в пропаганду и далее в СМИ попадает специализированная лексика, утрачивающая в дискурсе исходную семантическую структуру и приобретающая несвойственное ей коннотативное наполнение. В итоге «нередко ведущим, основным (наименее зависящим от контекста, наиболее частотным) оказывается такое значение, которое в толковых словарях общеупотребительного языка отмечено как вторичное или совсем не зафиксировано» [Чудинов, 2020]. Упомянутый феномен размывания семантической и прагматической структуры слов свойственен не только научной, но и общеупотребительной лексике, поскольку сверхцель манипулятивного ПД - создание «знака равенства» между публицистически-дискурсивной реальностью и картиной мира конечного адресата [Будаев, 2023] – должна быть достигнута любой ценой. В настоящей статье рассмотрение упомянутого манипулятивного приема происходит на примере дискурсивно обусловленных искажений смысловой структуры лексемы «Победа», парадигматическое значение которой таково:
-
- успех в битве, войне при полном поражении противника;
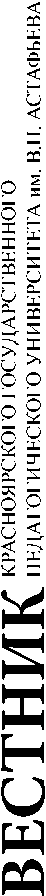
– успех в борьбе за что-н., осуществление, достижение чего-н. в результате преодоления чего-н2.
Наша страна имеет полное право защищать себя. И мы это делаем. Мы никого не оккупировали, а наоборот. Война связана с оккупацией нашей земли. Мы должны победить. Какие шаги предпринять, чтобы победить? Это другой вопрос. И не обижайтесь, я не готов делиться. Я скажу вам честно3.
В контексте вместо слова «Победа» употребляется его глагольный дериват. Самое главное и, вероятно, единственное намерение автора ПД – навязать свою эмпатию, вызвать эмоции, последствием возникновения которых станет воздействие на мыслительные процессы и отрыв от реальности. Данный прием манипулирования может быть направлен «на увеличение числа избирателей, готовых проголосовать за кандидата» [Сумарокова, 2023, с. 132; цит. по: Юсупова, 2017, с. 861]. Адресант, говоря о победе, прибегает к речевому триггеру [Копнина, Забродина, 2023, с. 16], призывая к сдерживанию эмоций по поводу его ухода от ответа и открыто заявляя о нежелании отвечать на вопрос. Интерпретировать такое речевое поведение можно двояко: говорящий субъект умолчит о плане победы как о военной тайне или же он не готов дать более подробный комментарий ввиду незнания тех самых шагов, необходимых для победы. При первом варианте развития событий актуализируются семы, передающие скрытность и секретность, при втором – растерянность и безнадежность, но в обоих случаях победа представлена чем-то размытым и далеким, хотя и желанным, должным иметь место быть.
Очевидно, что дискурсивно обусловленная семантическая структура слова «Победа» не соответствует его парадигматической семантике, вызывая тем самым когнитивный диссонанс.
Такая семантическая расплывчатость и прозрачность, обозначение чего-то недостижимого или до конца невыражаемого превращают «Победу» в лексическую единицу, относящуюся к сло-вам-амебам4 или словам-мифогенам [Васильев, 2012, с. 33]. В силу ограниченного объема статьи мы рассмотрим лишь несколько примеров, ярко демонстрирующих данное намерение автора и достигаемый им результат.
Речь идет не о том, чтобы верить в Бога. И именно поэтому вы должны доверять. И мы укрепляли все это доверие с помощью соответствующих мощных шагов в нашей стране и, конечно, с помощью дипломатии. И вот почему – я знаю, что среди некоторых партнеров есть скептицизм, что было бы страшно, если бы мы освободили абсолютно все свои территории. Но я, например, могу жить с этим скептицизмом. И я считаю, что, честно говоря, чем больше у нас побед на поле боя, тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи (1). Таковы мои выводы (2)5.
Выделенный горизонтальный микроконтекст (1) повышает коннотативную нагрузку всего отрывка: на передний план выводятся отрицательно маркированные семы ожидания помощи извне и признания своей зависимости как от нее, так и от чужого мнения. Также ярко проявляется смысл скрытого подчинения спонсорам, а микроконтекст (2) явно указывает на то, что автор ПД, открыто признавая сложившуюся ситуацию, актуализирует семы «несамостоятельность» и «смирение». Следовательно, образ победы начинает соответствовать чему-то зависящему: 1) от зарубежного воздействия и при этом 2) от веры в происходящее со стороны говорящего субъекта, что слабо соответствует традиционному пониманию победы в целом. В итоге при переводе с манипулятивного на общеупотребительный язык [Копнина, Еремина, 2023, с. 4] победа представляется не реальной, но воображаемой, сумбурно-призрачной, которую трудно представить и описать.
В манипулятивном ПД обильное лексическое окружение ключевой лексемы не способствует семантической конкретизации и созданию здоровой мыслительной обстановки для адресата.
Вопреки всем разногласиям и сценариям гибели и мрака, наша страна не пала. Она жива и брыкается. Спасибо. И это дает мне веские основания поделиться с вами нашей первой совместной победой: мы победили врага в битве за умы всего мира (1). У нас нет страха, и никто в мире не должен его испытывать. Мы одержали эту победу, и это придает нам мужества, которое вдохновляет весь мир. Американцы одержали эту победу, и именно поэтому вам удалось объединить мировое сообщество для защиты свободы и международного права. Европейцы одержали эту победу, и именно поэтому Европа сейчас сильнее и независимее, чем когда-либо (2). Тирания врага потеряла контроль над нами. И она никогда больше не будет влиять на наши умы. Тем не менее мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что страны Глобального Юга также одержат такую победу (3). Я знаю еще одну, на мой взгляд, очень важную вещь: у противника появится шанс стать свободными только тогда, когда они мысленно победят свою власть. Тем не менее битва продолжается и мы должны победить недруга на поле боя, да (4) 6 .
Приведенный ПД указывает на многосторонний семантический характер победы глазами его автора. Из фрагмента (1) следует вывод о тождестве победы и социального капитала на международной арене, то есть победа есть моральная поддержка глобального уровня. Контекст (2) актуализирует сему разделения успеха: победа одержана не только стороной говорящего субъекта. В отрывке (3) ярко проявляется возрастающая интенсивность сем предыдущих двух микроконтекстов, усиливаемых лексемой «такую»; также косвенно указывается на ключевую роль Европы, США и их «протеже» в возможности достижения победы странами четвертой стороны. Наконец, контекстное окружение (4) показывает ожидаемый взгляд на победу глазами врагов сквозь призму восприятия автора ПД: необходимость отрыва нации от ее власти. Победа глазами автора ПД есть военное поражение врага при условии моральной победы над государственной властью во имя свободы. ПД насыщен глорифицирующей лексикой, выражающей мелиоративную оценку мира автора ПД, способствующей позитивации его образа [Копнина, Еремина, 2023, с. 10]. В итоге многословие говорящего субъекта вносит синтагматический «вклад» в семантический образ победы, делая ее расплывчатым, неясным и слабо связанным с ее парадигматическим значением.
Попытка выдать свое видение ситуации глазами противника присутствует и в нижеследующем фрагменте.
Вопрос: Очевидно, что борьба в городе продолжается. Стоило ли того количества солдат, которые погибли и получили ранения там, продолжать боевые действия?
Ответ: Это однозначное решение всего военного и политического руководства. Все понимают, что этот населенный пункт – это единственное, что вражеские военачальники могут продать своей демонтированной армии и своему обществу. Им это только для того, чтобы сказать: «Здесь операция наша. Вы видите, мы все делаем правильно. Давайте продолжим. Вы видите, что это великая победа». Потому что 99 процентов обывателей даже не понимают, что это за город, никогда там не были и не видели его. И потому, что они верят своему телевидению, а не своим глазам7.
В рассматриваемом контексте повторно наблюдается намерение автора ПД убедить
адресата рассматривать победу с позиции недруга, но сквозь систему ценностных взглядов самого адресанта - в контексте появляются значения «недальновидность» и «хвастовство», приписываемые врагу субъектом речи: актуализируются смыслы неразрывности победы с точечным местом и не-выходом ее за рамки указанного населенного пункта. Победа, пусть и противника, представляется чем-то туманным, неясным и ограниченным.
Манипулятивный эффект может достигаться противоположными, но не взаимоисключающими методами. Чрезмерная информационная загруженность, в частности излишнее лексическое наполнение и нарушение логики высказывания, снижает способность трезво мыслить, нейтрализуя информационным шумом защиту адресата. Подобным образом краткие отрывки ПД, например, лаконичные ответы в интервью, тоже могут оказаться эффективными, например, для молодого поколения, ценящего краткость [Вдовиченко, 2023, с. 58].
Мне трудно сказать, какой будет политика другого президента, если будет другой президент. Прежде всего, мне неясно, продолжится ли война через год, когда в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы. И я хотел бы верить, что война закончится и мы к тому времени победим8.
В микроконтексте нет лексемы «Победа», которая заменяется вербальным дериватом «Победим», тем не менее явно транслируются неуверенность, а также смысловой оттенок подхалимства, желания приурочить победу к важному событию в другой стране. Адресат, доверяющий дискурсу, воспримет победу как что-то абстрактное, на данный момент недостижимое, но желанное и очень уместное в контексте выборов за рубежом.
При условии что в системе приоритетов автора ПД на первом месте стоит эмоциональность, собственно семантические элементы могут отодвинуться на второй план, нарушая логику высказывания.
Если неприятельские ракеты атакуют нас, мы сделаем все возможное, чтобы защитить себя. Если они атакуют нас иранскими беспилотниками и нашим людям придется отправиться в бомбоубежища в канун Рождества, воины все равно сядут за праздничный стол и будут подбадривать друг друга. И нам не обязательно знать желание каждого, поскольку мы знаем, что все мы, миллионы украинцев, желаем одного и того же: Победы. Только победы9.
Рассматриваемый фрагмент ПД характеризуют противоречащие друг другу смыслы: предельных усилий – «сделаем все возможное» и легкости достижения цели, беззаботности - воины все равно сядут за праздничный стол и будут подбадривать друг друга . Прагматическую напряженность дискурса усиливает «коллективное желание»: все мы, миллионы украинцев, желаем одного и того же . Таким образом, контекст показывает победу как нечто возможное и достижимое при условии максимально возможного старания, бодрости, расслабленности и праздничной атмосферы.
Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я действительно хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть – мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. (...) Важно, чтобы все партнеры в полном объеме выполняли «свою домашнюю работу» 10 .
В контексте ярко проявляется уверенность в достижении цели при совершении некоторых, не совсем ясных действий, а также обесценивается основное значение слова «победа» в сочетании с лексемами: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Последнее предложение актуализирует комбинацию манипулятивных приемов: намек на надежду получения помощи извне и косвенное указание на необходимость желаемого автором ПД положения дел. В то же время выделяются и элементы прово-кативного дискурса [Степанов, 2012, c. 114]: косвенное признание собственной лени, неуверенности и убеждения, что «нам должны». Все перечисленное сопровождается дополнительным набором потенциальных смысловых оттенков: попыток подстроиться под обстоятельства, скрытой наглости, неподготовленности и нерешительности.
Выводы. Очевидно, что во всех фрагментах автор ПД стремится убедить массового адресата в своей правоте. Однако неудачно подобранное дискурсивное окружение приводит к утрате лексемой «Победа» ядерного смыслового компонента и демонстрации не той семантической и прагматической динамики, на которую была направлена интенция автора. Как следствие, произошло ослабление архисемы победы и актуализировались латентные пейоративные семы [Ковтунова, 2022, c. 59], среди которых наиболее ярко выражены неуверенность, нерешительность, непонимание. Из проведенного анализа следует невозможность сохранения трактовки победы в словарно-семантическом значении, а в дискурсивно обусловленном значении рассматриваемая лексическая единица приобретает настолько нетипичные смыслы, что становится идеологемой [Амиров, 2023, с. 37; цит. по: Нахимова, 2011, с. 153].
Заключение. Подводя итог нашему исследованию, можно констатировать, что из материала статьи не удается создать четкий семантический и прагматический образ победы, опираясь на дискурсивные фрагменты высказываний автора ПД. Семантический анализ показывает, что адресант размыто представляет себе, что такое победа, скорее всего, в его восприятии это прецедентное понятие [Нахимова, Николаева, 2023, c. 114]. Наблюдается столь сильное расхождение парадигматического и синтагматического значения, что набор словарных сем совпадает с дискурсивным выражением и восприятием «победы» лишь в самых общих чертах, а по признаку некоторых дифференциальных и тем более потенциальных сем расходится радикально.
Список литературы Дискурсивно обусловленное искажение семантической структуры лексемы "победа" в современной публицистике
- Амиров В.М. Трансформация стратегий репрезентации идеологемы «русский характер» в советских и современных СМИ // Политическая лингвистика. 2023. № 6 (102). С. 36–46.
- Бакина Н.М. Коммуникативное поведение американских политиков // Вестник Калмыцкого государственного университета. 2023. № 2 (58). С. 38–43.
- Бубнова И.А. Топосы современной публичной западной дипломатии в контексте глобализации: специфика и цели // Политическая лингвистика. 2023. № 6 (102). С. 13.
- Будаев Э.В. Аксиологический портрет белорусской милиции в комментариях к YouTube-каналу Nexta // Политическая лингвистика. 2023. № 6 (102). С. 47–56.
- Васильев А.Д. Игры в слова: современные национальные загадки: монография / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск, 2012. С. 12–19.
- Вдовиченко Е.А. Новостной франкоязычный текст политической тематики со структурой «Diamond» («Бриллиант») для таргет-групп младшего школьного и младшего подросткового возраста // Политическая лингвистика. 2023. № 6 (102). С. 57–67.
- Громова Н.С. Лингвополитический анализ термина «гибридная война» // Политическая лингвистика. 2023. № 6 (102). С. 68–76.
- Евсеева И.В. Роль средств массовой коммуникации в информационно-психологической войне // Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106).
- Игнатова Ю.С. Семантика термина «конституция» в политическом и медийном дискурсах XXI века // Политическая лингвистика. 2023. № 6 (102). С. 105–113.
- Ковтунова Е.А. Аспекты медиатизации немецких терминов // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2022. № 11 (866). С. 54–61.
- Копнина Г.А., Еремина Е.В. Основные векторы развития лингвистики информационно-психологической войны // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2023. № 16 (6).
- Копнина Г.А., Забродина А.Н. Речевые триггеры в интернет-коммуникации (на материале социальной интернет-сети «ВКонтакте») // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. М.: Ин-т научной информации по общественным наукам РАН, 2023. № 2. С. 11.
- Левковская К.А. О некоторых особенностях терминологии (на материале немецкого языка) // Труды Института языкознания АН СССР. 1959. Т. 9 С. 355–387.
- Нахимова Е.А. Идеологема Сталин в современной массовой коммуникации // Политическая лингвистика. 2011. № 2. С. 152–156.
- Нахимова Е.А., Николаева Е.Ю. Прецедентное имя Тэтчер/Thatcher в англоязычных и российских медиапубликациях // Политическая лингвистика. 2023. № 6 (102).
- Степанов В.Н. К вопросу об эмоциогенной коммуникации // Иностранные языки в высшей школе. 2012. Вып. 1(20). С. 114–121.
- Сумарокова Н.А. Просодические трансформации публичной речи Дональда Трампа между первой и второй президентскими кампаниями // Политическая лингвистика. 2023. № 6 (102). С. 131–140.
- Чудинов А.П. Политическая лингвистика. 6-е изд. 2020. С. 91.
- Юсупова Р.Р. Реализация коммуникативного патерналистического воздействия в избирательной кампании Дональда Трампа // Вестник Башкирского университета. 2017. Т. 22, № 3.