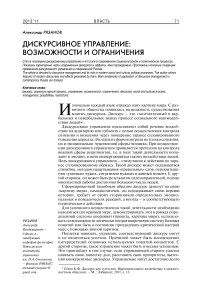Дискурсивное управление: возможности и ограничения
Автор: Рязанов Александр Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические институты и технологии
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена дискурсивному управлению и его роли в современном социокультурном и политическом процессах. Показаны характерные черты современных дискурсов и эффекты, ими порождаемые. Прослежены основные тенденции применения дискурсивного управления в современной России.
Дискурс, социокультурный процесс, управление, возможности, ограничения
Короткий адрес: https://sciup.org/170166702
IDR: 170166702
Текст научной статьи Дискурсивное управление: возможности и ограничения
И значально каждый язык отражал одну картину мира. С развитием общества появилась возможность существования многих дискурсов. Дискурс – это «запечатленный в вербальных и невербальных знаках процесс социального взаимодействия людей»1.
Дискурсивное управление представляет собой речевое воздействие на аудиторию или субъекта с целью осуществления контроля сознания и внушения через поощрение заранее спланированного поведения адресата. Это одна из форм контроля не только сознания, но и эмоционально-чувственной сферы человека. При осуществлении дискурсивного управления проявляется претензия на контроль волевой сферы реципиентов, т.е. в поле такой деятельности попадают и эмоции, и воля подвергающихся такому воздействию людей. Цель дискурсивного управления – стимуляция к действию по заранее спланированному образцу. Такой дискурс может складываться стихийно, методом нащупывания «правильных» слов, перехватывания «удачных» чужих, ситуативно нужных в данный момент. С другой стороны, он может быть результатом целенаправленной, подчас многолетней работы достаточно большого числа людей.
Сформированный подобным образом дискурс замкнут на свою «картину мира», самодостаточен, он поддерживает свою версию истории, требует от своих сторонников определенных эмоциональных и поведенческих реакций, а иногда – и соответствующего политического действия.
Для успешного осуществления такой деятельности необходимо находиться (по крайней мере, демонстрировать это) в рамках определенной системы координат (проекта, картины мира), использовать по возможности логически непротиворечивую систему базовых понятий или быть в состоянии преодолевать критический настрой масс с помощью личной харизмы.
Попытки навязать, управляя, соответствующий дискурс могут и не окончиться успехом. Причиной может быть несовпадение интерпретаций основных используемых понятий-концептов. С другой стороны, такое управление может быть и весьма успешным. Это произойдет в том случае, если управляющей стороне удастся навязать свою повестку дня, расставить свои приоритеты, вытеснив конкурентные дискурсы. Управляемые могут достаточно долго мириться с транслируемым дискурсом и даже действовать в соответствии с ожиданиями управленцев, но не нужно заблуждаться: при изменении баланса силы ситуация может быть отыграна назад.
Процесс осуществления дискурсивного управления подразумевает попытку осуществления господства без явно выраженного силового воздействия, через контроль сознания и поведения с помощью языка. Такое управление может быть очень гибким и функциональным. Подмена понятий может быть мало заметной и растянутой во времени. Человек, находящийся под таким воздействием, может не ощущать этого и даже считать себя адекватно отражающим реальность.
Человек, хорошо владеющий словом, может достаточно долго оказывать убеждающее воздействие на людей, находящихся под его влиянием. Но самое главное: он, люди, связанные с ним и поддерживающие его, должны создать условия для трансляции этого дискурса при полном или частичном подавлении других дискурсов. Общества отличаются друг от друга способами подавления других дискурсов. Тоталитарные режимы действуют жестко, вплоть до физического устранения носителей других дискурсов. Государства, стоящие на демократических началах, действуют тоньше: они могут препятствовать самой возможности трансляции этих дискурсов (для этого есть множество способов) без физического устранения их носителей. Такие общества могут сосуществовать с другими дискурсами и их носителями, давать им возможность быть, развиваться и транслироваться только в том случае, если последние не представляют опасности для основного дискурса.
Делается это за счет необходимой организации как коммуникативного, так и физического пространства. «Неинтересные» с точки зрения власти дискурсы маргинализируются, вытесняются из мейнстрима. Наиболее яркие сторонники этих дискурсов получают (явно или неявно) приглашение от действующей элиты к сотрудничеству, от которого сложно отказаться. Еще одним значимым моментом в данном случае является формирование масс, работа с массовым сознанием и массовыми настроениями1.
Отрабатываются технологии эффективного воздействия на человека массы, формируется и внедряется понятийная сетка, необходимая для такого воздействия, происходит целенаправленная актуализация необходимых понятий-концептов для построения или поддержания соответствующей картины мира. Так происходит подгонка технологий к управляемой массе.
Сложностью в данном случае является необходимость работы с объектом, которому свойственна определенная языковая картина мира и который воспринимает происходящее через эту картину. Причем она связана не только с тем, что человек понимает, но и с тем, что человек чувствует, т.е. она предопределяет реакцию человека на происходящее и направленность (и часто – саму возможность) последующего действия. С учетом сложности работы в современном коммуникативном пространстве управляющая система предоставляет определенный репертуар официальных (или условно официальных) дискурсов. Отдельной мыслящей единице приходится выбирать ту, которая в большей степени созвучна его представлениям о реальности. Отсюда попытки организации различных «крыльев» или «клубов» не только в партии власти.
По мнению Б.М. Гаспарова, «языковая среда, в которой осуществляется эта деятельность, непрерывно движется, течет. Каждый новый случай использования языка происходит в несколько изменившихся условиях, изменяющих для говорящего очертания языковой среды, режимы ее работы. Попадая из языковой среды автора в языковую среду каждого нового адресата, созданное высказывание всякий раз меняет условия своего существования. Любые внешние условия, сопричастные данному моменту языковой деятельности, оказывают влияние на его ход и результаты»2. Кроме того, меняется не только языковая среда, но все сопутствующие ей феномены, включая политическую жизнь, политическую культуру. Представляется, что именно этим обусловлена сложность анализируемой постоянно меняющейся реальности.
Дискурсивное управление подразумевает не только речь саму по себе, но и соответствующие ей дискурсивные прак- тики, которые призваны вызывать к ней доверие. Поскольку в стране идут сложные процессы в сфере экономики, в области образования и культуры, то возникают трудности с адекватным речевым оформлением происходящего и достижением доверия. По мнению М. Кронгауза, «сегодняшний политический язык не поддается четкому определению – это варево из советских клише, бандитских словечек и сленга. Современный политик все еще “борется за урожай” и проводит встречи “в теплой дружеской обстановке”, но уже вслед за премьером и президентом старается вовсю “мочить в сортире” и “кошмарить” бизнес»1. Получается, что реальность не адекватна ее речевому оформлению, и это затрудняет осознание происходящего и препятствует успешному управлению ситуацией.
В тех случаях, когда какой-то политической силе или политику удается «догнать время», с достаточной степенью точности выразить в языке происходящие в реальности изменения и направить сограждан на объективно необходимые действия, то эта сила или политик могут быть спокойны за эффективность свой деятельности.
Естественно, дискурсивное управление рискованно. Оно чревато последствиями, в т.ч. и тяжелыми. Достаточно сложно предусмотреть, насколько долго объект манипуляции будет действовать в интересах манипулирующего (управляющего) лица и что будет потом, когда он прозреет. Конечно, есть приемы, способствующие снижению вероятности (даже самой возможности) прозрения манипулируемого. Если речь идет о «коллективном субъекте», то таким приемом будет (наряду с изоляцией и устранением особо «прозорливых») постепенное снижение образовательного и интеллектуального уровня управляемых слоев населения.
Вместо решения объективно существующих проблем, связанных с миграцией или легитимацией собственности, власть предпочитает менять негативные слова на нейтральные, пытаясь заниматься, по сути, дискурсивным управлением. Так, предложение о замене слова «мигрант» в Концепции национальной политики России на слово «мобильный гражданин» не решает проблему, а представляет собой попытку (не слишком удачную) закамуфлировать реальное положение вещей, вводя людей в заблуждение относительно происходящего.
Следует отметить, что в значительной части случаев и политики, и часть граждан видят это несоответствие, и это не может не вызывать раздражение. По мнению В.Н. Гасилина и Л.А. Тягуновой, «главная особенность новых возникающих социальных институтов состоит в том, что социальность симулируется. Эта ситуация сложным образом взаимодействует с константными, объективно существующими социальными институтами»2. Таким образом, в реальности наличествуют объективно существующие институты, а в сознании людей – дискурсивные. Это рассогласование может вызвать либо симуляцию, либо когнитивный диссонанс. Это означает, что попытки дискурсивно управлять сферой социального, не производя в реальности необходимые изменения, могут быть и неуспешными.
Управленческий дискурс может быть выстроен на разных основаниях. Субъект в выстраивании своей речи может отталкиваться от какой-то идеологии или теории. Но в любом случае важна не сама речь по себе, но ее возможность оказывать на слушателей убеждающее или внушающее воздействие. Язык оказывается не только средством открытости для своих, но и средством закрытости от чужих. Возникнув как средство коммуникации, он одновременно принял на себя и функцию защиты от суггестии3.
Таким образом, дискурс скрепляет социальный коллектив в относительно единое целое, удерживает его носителей в его рамках и обеспечивает совместную целерациональную деятельность. «В условиях массовой коммуникации властвует социальная, а стало быть политическая игра: игровые комбинации составляются или просчитываются доминирующими социальными группировками, имеющими целью воздействовать или повлиять на массовое сознание так, чтобы добиться формирования общественного мнения. Как правило, успешность влияния/воз-действия (импакта) гарантирована, если объект влияния не догадывается о реаль- ных интенциях влияющего/воздействую-щего (импактора)»1. Иными словами, дискурсы могут «работать» как в реальном, так и в виртуальном пространстве.
Управленческие дискурсы могут иметь, а могут не иметь идеологическую начинку, критерием успеха может быть экономическая эффективность, а может быть соответствие тем или иным образцам или взглядам. Могут существовать поддискурсы, т.е. варианты дискурса, предназначенные для какой-то специфической аудитории или для особого случая, например для узкого круга лиц. Они учитывают контекст и могут быть ситуативно оправданны.
Один и тот же дискурс может по-разному пониматься разными группами людей, даже говорящих на одном языке и вхожих в одну и ту же культуру. Мастер дискурса может выражать ту или иную позицию таким образом, что обыденное сознание потребителя информации будет воспринимать происходящее под нужным углом зрения и не будет обращать внимание на противоречия и другие несоответствия в нем. Умело расставляя необходимые акценты, манипулируя вниманием реципиентов, можно «спрятать» актуальную информацию, «подработать» ее под свои интересы или интересы своей группы. Дискурс направлен на то, чтобы отсечь «чужих» и выделить и, возможно, мобилизовать своих сторонников.
Особый случай представляет собой религиозный дискурс. Он является «одним из важнейших компонентов деятельности человека, поскольку вербально реализует весьма существенную его потребность – потребность в вере как концепте ценностной ориентации в пространстве бытия»2. Выработка религиозного дискурса представляет собой сложный процесс, она связана с борьбой личностей и интерпретаций слов, а также реальных ситуаций. Любой такой дискурс представляет собой многокомпонентный комплекс, включающий в себя не только речь, но и соответствующие ей поведенческие практики, призванные вызывать доверие. Религиозный дискурс должен соответствовать, а лучше – иллюстрировать, даже воссоздавать картину мира той или иной конфессиональной или этнической группы. Человек нуждается в опоре и предсказуемости окружающего мира, поэтому его языковое оформление – дело, безусловно, значимое.
Дискурсивное управление в новейшее время требует высокой квалификации, т.к. привычные манипулятивные программы и штампы далеко не всегда срабатывают. В целом, в современном человеке растет степень выраженности индивидуального начала. Однако современные управленческие дискурсы научились обходить защитные преграды сознания индивида и оказывать на него заранее спланированное влияние. Профессионалы дискурсивного управления использует весь арсенал возможностей влияния, наработанных практикой.
Дискурс помогает «лакировке» действительности, он дает возможность достижения рационализации происходящего на личностном уровне. Наглядным примером этому является внедрение в сферу социального управления в странах Европы и США дискурса политкорректности. Этот дискурс закрывает от обсуждения, по сути, табуирует обсуждение ряда нежелательных для управляющих тем. Он может выступать и на практике выступает эффективным средством социального контроля. Собственно, этот же эффект достигается и в современной России при использовании элементов данного дискурса.
Дискурсивное управление на практике часто смыкается с манипулированием. С другой стороны, дискурсивное управление – необходимое, а иногда и единственно возможное средство управления, организующее поведение и деятельность людей. Оно выступает средством трансформации не только дискурса, но и того или иного фрагмента действительности. Дискурс обладает внушающей, убеждающей силой, программирующей действие или бездействие человека, что делает его важным элементом в арсенале механизмов социального управления.