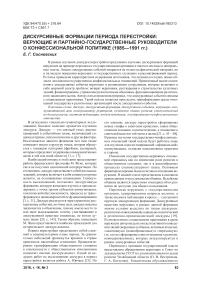Дискурсивные формации периода перестройки: верующие и партийно-государственные руководители о конфессиональной политике (1985-1991 гг.)
Бесплатный доступ
В рамках изучения дискурса перестройки предложено изучение дискурсивных формаций верующих на примере переписки с государственными органами и писем в местные и центральные газеты. Анализ дискурсивных событий опирается не только на фактический материал, но и на модели поведения верующих и государственных служащих в рассматриваемый период. В статье приведена характеристика содержания источников, что позволило создать новые области для анализа государственно-конфессиональных отношений. Проведенный анализ помог понять дискурсивные события верующих и руководящих сотрудников, которые включают в себя широкий спектр проблем: возврат верующим, реставрация и строительство культовых зданий, финансирование, управление религиозными общинами, функционирование религиозного законодательства. Автор статьи продемонстрировал, что дискурсивные события связаны с социальными практиками. Такой подход позволил проследить трансформацию среды отношений государства и религиозных организаций после дискурсивного события.
Дискурс, дискурсивная формация, дискурсивное событие, верующие, коммуникативный акт, коммуникатор, реципиент, культовое здание, религия, уполномоченный по делам религии, газетная публикация, модели поведения, государственно-конфессиональные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/147151123
IDR: 147151123 | УДК: 94(470.55) | DOI: 10.14529/ssh160313
Текст научной статьи Дискурсивные формации периода перестройки: верующие и партийно-государственные руководители о конфессиональной политике (1985-1991 гг.)
В актуальных социально-гуманитарных исследованиях большое значение придается изучению дискурса. Дискурс — это связный текст, рассматриваемый в событийном плане, включающий социокультурные, психологические и другие факторы. Исследователи данного феномена под ним также понимают некую структуру языка, которая образуется с помощью паттернов (фреймов, сценариев), которые определяют содержание коммуникативных актов в той или иной области [13, с. 17].
Наибольший интерес в этой связи представляют работы французского философа М. Фуко, которые так и не получили однозначной интерпретации. По его мнению, дискурс представляет собой ряд высказываний, которые включает в себя социокультурные аспекты, не осознаваемые индивидами. Совокупность высказываний, составляет дискурсивную формацию, которую возможно изучить и проанализировать с точки зрения субъектов коммуникации, тематической обусловленности, процесса ее трансформации и закономерностей ее функционирования [3, с. 31]. Дискурс реализуется через практики (дискурсивные события), поэтому цель дискурс-анализа заключается в объяснении, почему имело место то или иное высказывание, почему участвовавшие в дискурсивной практике индивиды, не могли думать иначе [20, с. 143]. Таким образом, концепция М. Фуко представляется наиболее прикладной для исторического дискурс-анализа.
Период перестройки представляет собой сложный в социокультурном плане период. За сравнительно небольшой промежуток времени в стране произошли масштабные изменения. Проанализировать трансформацию общественного сознания в совокупности с общественными изменениями позволяет именно дискурс-анализ. Одной из ведущих работ по исследованию дискурса в период перестройки является работа А. Юрчака [21]. По модели поведения, государственно-конфессиональные его мнению, дискурс перестройки сформировал новые «мифы о советском прошлом», новое общественное сознание, а соответственно, и отношение к советской власти и той эпохе в целом [21, с. 43—48]. В рамках изучения государственно-конфессиональных отношений такой подход будет работать лишь для изучения идеологизированной «официальной» коммуникации, оставляя повседневные практики в стороне.
Изменения государственно-церковных отношений отразились как на изменении роли религии в общественном сознании, так и в разнообразных процессах социокультурного плана. Основным фарватером перемен была политика в отношении верующих. В данной статье представлены в основном православные и мусульманские общины. Иудейские общины являются закрытыми и материал об их развитии не доступен для общего пользования.
Переписка верующих с государственными органами, курировавшими вопросы религии, а также письма и публикации в прессе — составляют крупную дискурсивную формацию. Дискурсивные практики верующих в рамках данной формации можно условно выделить по типам дискурсов: религиозно-повседневный , социально-политический и религиозно-пропагандистский дискурсы [19]. В соответствии с социальными практиками в среде верующих автор выделил модели активного поведения людей (верующие в общине, активные атеисты), «адаптивную» (новообращенные) и «переходную» (те, кто не сформировал свое отношение к религии, невоцерковленные), которые актуализируются в рамках дискурсивных событий.
Переписка с органами государственной власти представлена обращениями верующих в Совет по делам религии СССР и к уполномоченным по делам религии Челябинской области (П. И. Востренков, Г. А. Костенко). Тематическая обусловленность практик вызвана трансформационными процессами в отношении религии: изменении роли религии в общественном сознании, строительстве, реставрации, возврате памятников культурного назначения, росте числа религиозных общин.
С начала перестройки, верующие стали активно заявлять о своих религиозных нуждах. Росло число религиозных общин Русской Православной Церкви, требовалось большее количество приходов. На начало 1985 года в городе функционировал Свято-Симеоновский кафедральный собор. В августе верующие города обратились с просьбой о предоставлении для удовлетворения религиозных нужд еще одного здания. Они писали о том, что «Группа православных верующих неоднократно обращалась в облисполком название органа власти писалось ранее с заглавной буквы с вопросом о передаче храма. В котором в настоящее время Краеведческий музей (Свято-Троицкая церковь — прим. автора ). В городе было 2 храма. Один из них был снесен по решению исполкома каков уровень исполкома — они ранжировались в те времена по объему властных полномочий. В место него было решено дать верующим другое помещение. Если до 1960 года была нужда иметь в городе 2 храма, то теперь учитывая рост количества населения и количество верующих, иметь второй храм просто необходимо. Число верующих по словам уполномоченного 4500. Размер одной церкви с пристроенными тамбурами к бывшей кладбищенской часовне, известны облисполкому, а также известно, что в храме 150 м2 невозможно вместить всех желающих. Люди вынуждены при любой погоде стоять у ограды » [7, л. 11] (Здесь и далее текст писем и их фрагментов (орфография, пунктуация, написание заглавных букв и др.) сохранен. Выделение курсивом , подчеркивание — автора статьи).
Стилистическая окраска письма показывает, что пишущий обращается к реципиенту, как к равному (активная модель поведения). Причина этого скорее кроется в возрасте коммуникатора. Для более эффективной коммуникации письмо написано в официальной манере. Обилие числовых данных указывает не только на то, что пишущий хорошо осведомлен в данном вопросе, но и прекрасно осознает, что без веских доказательств ходатайство не будет удовлетворено. Коммуникативная ситуация соответствует началу периода перестройки, когда решение вопроса передачи зданий культурного назначения все еще оставалось трудным, а атеистическая пропаганда шла полным ходом. Решение вопросов передачи зданий полностью зависело от государственных органов. После длительного процесса возврата и реставрации Свято-Троицкая церковь была окончательно передана второй православной общине верующих в 1990 году.
Пользуясь безразличным отношением властей к судьбам храмов и общин, в церковь попадали недобросовестные служители культа. О таких церковных служителях и обмане верующих, общиной храма в феврале 1985 г. было написано письмо. В нем утверждалось, что «Увеличение стоимости свечей на 100%; заказных — 100%! Увеличение роста долгов не останавливается. Вот к чему приводит нарушение закона об установлении срока полномочий Церковного совета и ревизионной общины верующих. Наша Челябинская церковь Симеона Праведного ежегодно отчисляет в фонд мира по 240 т. р. Община верующих могла бы перечислять еще большую сумму, но нам необходимо собрать церковный совет — 3 человека и ревизионную комиссию 3 человека. Хотим освободить людей от недобросовестных, нечистых, преследующих корыстные цели, чтобы хозяевами были не те, кто работает, а те, для кого они работают» (февраль 1985 г.) [7, л. 26—27].
Коммуникативное событие начинается с перечисления фактов, приветствие опущено, информация указана сжато, создается иллюзия эффективной коммуникации (активная модель поведения). Предполагается скорый ответ реципиента. Данное письмо является не только яркой эмоцией, но и очередной попыткой со стороны верующих показать властям, что они истинные хозяева в церкви. Понимая, что без участия властей этот вопрос решаться не может, верующие указали на свой вклад в Фонд мира. Коммуникативный посыл письма указывает на поиск со стороны верующих стратегии взаимодействия с властными структурами для удовлетворения своих нужд. Однако требования проведения общецерковного собрания и ревизионной комиссии удовлетворены не были. Проблема заключалась не только в бездействии со стороны властей, но и в незнании прихожанами того, как проводятся подобные мероприятия. К тому же законодательство четко не разъясняло, что является «общим собранием верующих». Инцидент был исчерпан только к концу 1985 года после многочисленных писем в Совет по делам религии СССР и сотрудничества с уполномоченным по делам религии П. И. Востренковым [7, л. 19—66]. В данном случае проявилась активная модель поведения атеиста.
Судьбы храмов широко обсуждались общественностью. Решение таких вопросов во многом зависело от партийных работников, в том числе и от того насколько быстро эти люди могли перестроиться на новый стиль руководства в соответствии с реформами в стране. В 1988 году, после празднования Тысячелетия Крещения Руси, верующие почувствовали себя более свободно, поэтому не боялись обращаться со своими предложениями и жалобами не только в Совет по делам религии СССР, но и к депутатам, и даже к Генеральному секретарю ЦК КПСС. В мае 1988 г., разгар празднования Тысячелетия Крещения Руси, в адрес М. С. Горбачева пришло письмо от пенсионеров. Они писали: «Мы старики обращаемся к вам с просьбой , попросите наших руководителей , чтобы нам открыли церковь . Город большой Челябинск, церковь одна. Нам старикам много не надо, да и вообще ничего хорошего не видели. Старики все церковные… потом еще один к вам вопрос. Просите наше руководство на местах , чтобы в церковь не посылали артистов (речь о храме Александра Невского — прим. автора ), они своим пением мешают церковному хору. Их баснопение с церковным не сходится . С уважением пенсионеры» [10, л. 9].
С первых строк прослеживается разница в коммуникативных ролях. В данном случае это пассив- ная модель поведения. Реципиент представлен как последняя инстанция, высшая справедливость. Во времена перестройки М. С. Горбачев был рупором перемен, поэтому многие жители страны надеялись на его влияние и поддержку в решении насущных вопросов. Религия — не исключение. В целом, в письме пенсионеров прослеживается безысходность их ситуации. Радикальных перемен нет, в целом в СССР они хорошо не жили, так как не могли в полной мере реализовать свои религиозные потребности. Тоже касается и использования храма Александра Невского в качестве органного зала. Язык письма изобилует просторечиями, не везде грамотно расставлена пунктуация, что указывает на преклонный возраст авторов письма, скорее всего, не получивших даже полного школьного образования, а соответственно занимающих низкий социальный статус.
Дискуссия о судьбе храма продолжалась до 1998 года. Рассматривались варианты переноса музыкального инструмента в другое здание. Поэтому со стороны властей указывалось, что «…без решения этой проблемы осуществление Вашей просьбы в ближайшее время невозможно» [18]. К вопросу о передаче церкви Александра Невского в ведение епархии РПЦ вернулись только в 2010 году, храм был возвращен губернатором М. Юревичем.
В скором времени в стране появилась необходимость в формировании нового религиозного законодательства, которое отвечало бы требованиям трансформации государственно-конфессиональных отношений. Информация об этом воодушевила верующих на более открытый и последовательный диалог с властями разного уровня. Некоторые предложения были представлены в коллективном письме Н. И. Рыжкову и депутатам первой сессии народных депутатов ВС СССР. Авторы писали: « Где должны принять закон о свободе совести? В СССР или каждой республике отдельно? Нам верующим кажется, что закон должен быть общесоюзным. Смотрели М. С. Горбачева, когда он говорил о свободе совести, где он прямо сказал, что ВС народных депутатов примет закон о существовании полной свободной веры в Бога. И верующие, и духовенство будут иметь те же права, что и советский народ… Увы, пустой звон со стороны ЦК КПСС и Советского правительства. Съезд к концу, а закона все нет. На местах, когда верующие обращаются в местные советы о возврате церквей, мечетей… земель для зданий ссылаются на новые законы, власти отказывают, ссылаясь на времена застоя и бывшие законы. Законов о религии кроить, выдумывать не надо, надо почитать полный комплекс учебников…На основе Корана и других верований в одного Бога . Обращаемся к Вам просим: давайте покончим навсегда с бессмысленными обещаниями. На всех направлениях религия играет большую воспитательную роль. Особенно мусульманская, всесторонне открывающая правдивость, чистоплотность, доброту . … Почти весь народ умышленно превращают в безбожных дикарей. С просьбами Уральцы, Свердловск, Челябинск, Башкирия» [11, л. 37—38] (август 1988 г.).
В письме прослеживается озабоченность верующих появлением нового законодательства. В этом проявляется модель активного поведения. С другой стороны, отражен и позитивный момент — после стольких лет гонений можно открыто исповедовать религию . Далее выражено недовольство тем, что решения о новом законе все нет. Причем это недовольство выражено в достаточно грубой форме по отношению к власти, подчеркивая крайнюю степень недовольства.
Недовольство верующих становится полностью понятным из последующей информации, которая полностью отражает историческую картину государственно-церковных отношений и указывает на наличие различных моделей поведения руководителей на местах — новаторского типа (активная и адаптивная модели поведения) и «охранители», активные атеисты. К тому же верующие, надеясь на новое законодательство и большую лояльность властей, ожидали скорое разрешение своих проблем, чего не происходило. Стоит отметить, что пишущий, как человек преклонного возраста, но социально активный, не просто просит и объясняет, а видит необходимость «учить» партийный аппарат тому, как необходимо создавать законы. Коммуникатор употребляет не только всем известные факты, подчеркивает особую роль своего вероисповедания, рассказывает о нравственной миссии религии и в конце подчеркивает невежество не только властей в вопросе религии, но и тех, кто верующими не является. Цель данного письма весьма прозрачна — религиозный закон — Божий закон. Для верующих это является аксиомой. Но возможно ли регулировать отношения государства, общества и религии опираясь исключительно на религиозные представления?
Изучая дискурсивные события верующих Челябинской области в рамках переписки с государственными органами, нельзя упустить из виду массив писем по проблемам открытия храмов. Все эти письма разноплановые, написаны, по-видимому, разными общинами или жителями разных населенных пунктов близ города. В том числе, например, в г. Сатке в 1988—1989 гг. Началась эта долгая активная переписка с просьбы верующих о публикации официального обращения на страницах местной газеты, которое вызвало общественный резонанс. Выглядит оно следующим образом: « В связи с реформами политической системы в СССР и решением 19 Партконференции о разделении функций партийных и советских органов в количестве 2161 человек: 1. Отменить решение 1957 года 11 июня о закрытии единственной церкви г. Сатки. Решение является противозаконным, и идущим в разрез с 1929 года от 8 апреля. 2. Отменить его как политически устаревшее . 3. Принять решение о переводе краеведческого музея из здания церкви в здание, разрушенное властями в 40— 50-х годах здание памятник архитектуры Белой церкви, в которой находится экономически нерентабельный кинотеатр . 4. Требуем от депутатов решения о восстановлении снаружи, внутри одной из трех оставшихся церквей» [11, л. 6—8].
По стилистике письмо выглядит как резолюция или текст постановления, в этом проявилась актив- ная модель поведения. Вполне возможно, что автором его является человек, который когда-то работал в партийной структуре и хорошо знаком с тем как составляются подобные документы. В период перестройки некоторые члены партий приходили к вере, тайком крестили детей, вели культовую жизнь. Такая тональность письма могла быть негативно воспринята властями. Не удивительно, что секретарь горисполкома города заявила: «Церковь мы вам никогда не отдадим» [11, л. 25]. В попытках добиться своего, верующие написали письмо депутатам городского совета и теми же верующими было написано и открытое письмо депутатам городского совета [11, л. 9—11] и в Президиум ВС СССР [11, л. 5].
Итогом этой переписки длинной в полтора года стали письма в адрес местных и государственных органов, критикующих власть и политический курс страны. Так в письме за 4 мая 1989 г. утверждалось: «Что за партия, в которой говорят одно , а ноги и руки (рядовые члены партии) делают другое? Почему народ должен служить партии? … До каких пор решение этого вопроса будет зависеть от того, с какой ноги сегодня встала Башкова (сек. горисполкома г. Сатка, прим. автора) и ее личного отношения к религии? Такое сумасбродство со стороны местных властей продолжает действовать в духе «сталинизма» … Целая армия теоретиков партии ломает голову о причине сталинизма, когда причина лежит на ладони — извращение святой народной мудрости, пренебрежение духовными традициями народа. Ведь борьба с верующими началась еще при Ленине, не его ли это ошибка? » [11, л. 25].
В тексте видно недовольство членами партии «на местах», противоречие в основной линии перестройки — между моделями поведения партийного руководства «старой закалки» и «перестраивающемся народом», а также личное отношения к религии и политике советского государства.
Не меньшую активность проявляли верующие, обращаясь в местные и центральные газеты, реагируя на появлявшиеся статьи на тему религии. Газетные публикации были отражением общественной дискуссии. Они активно включались в общественную дискуссию о судьбе и роли религии в области и в обществе в целом, судьбах общин и храмов Переписка с редакциями газет и письма верующих в качестве публикаций, соответственно, имеют иные характеристики. Если целью переписки с государственными органами, в основном, выступает решение проблем конкретных общин или людей государством, то письма в газеты призывают к поддержке со стороны общественного мнения — организаций, ученых, жителей города. Письма, присланные в газеты, по-видимому, прошли предпечатную коррекцию, так как они отличаются грамотностью изложения, последовательностью, официально-деловым стилем, в некоторых публикациях стиль даже напоминает литературный. Стоит отметить, что церковные иерархи имели особый статус, поэтому их письма в представленной работе не рассматриваются.
Уникальной является статья «День как день. Репортаж из четырех общин» в газете «Известия» от 17.01.1986 года [1], вызвавшая широкий обще- ственный резонанс. Отклики на нее поступили даже в адрес Совета по делам религии СССР. Судя по содержанию, статья была написана в ответ на обвинения западных политиков и ученых в ущемлении прав верующих в СССР. В статье было показано как священнослужители и верующие католической, православной и мусульманской общин оценивают свое положение в обществе. На вопросы респондентов о «гонениях», был получен резко отрицательный ответ. Однако в письмах была совершенно другая информация. Авторы писали: «Приезжайте и поговорите с верующими. Идите из хаты в хату, и вы услышите горькую правду…» [8, л. 6—7]. Статья также спровоцировала всплеск интереса к религиозной политике: «Я — православный верующий, Могу ли я водить ребенка-школьника в православную церковь по его желанию, в свободное от занятий время?» [8, л. 6—7]. Стоит отметить, что в период перестройки остро стоял вопрос о правах ребенка и о том, стоит ли с детства прививать интерес к религии [4].
Обращались верующие к корреспондентам и по личным вопросам. Так в 1988 году в редакцию газеты «Известия» поступило письмо от Р. В. Сидоровой. Она писала: «Дорогой корреспондент Овчаров! В газете «Известия» за 10 января была статья «Возрождение Томи». Вырезала, много раз мною была прочитана и решила, что это именно то, что я нашла выход. Ваша статья прошла свет, и я знаю, что мне теперь делать . В Томи будет женский монастырь. Если меня не возьмут, я ведь далека от церковных дел, то хоть в дом престарелых. У нас в Челябинске есть церковь , малюсенькая на миллионный город, народу не пробиться, как за водкой в магазин. Видно, нам нужна «духовная пища » , такие толпы, просто сил нет. И конечно у попов нет часов приема. Как поступить в монастырь? » [10, л. 21]. По-видимому, статья была написана корреспондентом в пропагандистско-образовательных целях, он хотел показать, что в год Тысячелетия Крещения Руси продолжалось активное возрождение культовых зданий. Читательница же, восприняла ее в рамках личного опыта и жизненной ситуации. Церковь всегда была и остается приютом для одиноких, больных, гонимых людей, тех, кому нужна помощь. В этом состоит интерес пишущей, которая сама указывает на низкий уровень собственной религиозности. Информация о церквях и монастырях, которые были в большинстве своем разрушены, не афишировалась. Поэтому обратиться к корреспонденту оставалось для пишущей единственной возможностью получить информацию. В рамках коммуникативного взаимодействия, интересны те слова, которые она подбирает, описывая то, как изменилась ее жизнь после прочтения статьи, ее эффект. Особенного внимания заслуживает метафора — сравнение очереди в церковь с очередью за спиртным. Как антиалкогольная кампания периода перестройки, так и незначительные послабления в отношении верующих, видимых результатов не приносили.
Такая активность верующих привлекала внимание журналистов местных и центральных газет. Журналисты с активной атеистической позицией также увеличили число статей. По данным Совета по делам религии СССР на 1987 год, количество публикаций на темы атеизма возросло. Здесь же отмечено: «Больше стало газетных выступлений, связанных с Тысячелетием Крещения Руси. Эта положительная тенденция нашей прессы актуализирует проблему качества атеистических публикаций. Главный недостаток — неумение соединить полемическую страстность, пафос разоблачения с уважением чувств верующих» [9, л. 1]. Такие рассуждения со стороны чиновника указывают на его атеистический настрой (модель активного поведения, атеист). Количество публикаций на тему религии возросло, в ответ нужно больше публикаций по теме атеизма. Однако, в связи с новой политической линией, резкая критика в адрес религии уже не уместна. Данное письмо соответствует началу периода перестройки, когда атеистическая пропаганда еще была актуальной. Но в скором времени, ее полностью заменила тема религии как части культуры и публикации корреспонденции верующих.
Местные газеты первыми реагировали на вопрос о передаче верующим культовых зданий города и области. Выносились вопросы передачи зданий «на суд общественности». В начале января 1989 года в газете «Вечерний Челябинск» под заголовком «Вернуть мечети ее назначение» было опубликовано письмо верующего Б. Г. Загретдинова. После образования второй общины мусульман, верующим требовалась помещение для проведения религиозных служб. Он писал: « Верующие мусульмане города готовы помочь и отдать все силы, знания и опыт для успеха перестройки в направлении прогресса культуры… Но у общины нет помещения для проведения молебен и проповеди . Таким помещением может стать мечеть по ул. Елькина, 16. Она построена 99 лет назад на средства мусульман … Вместо того, чтобы принять действенное и справедливое решение о возврате мечети верующим мусульманам для использования по первоначальному назначению, горисполком поручил ГУАиГ внести предложение об отводе земельного участка для строительства мечети… Верующие это решение приняли как обиду. Верующие — ветераны Великой Отечественной войны и труда. Мечеть нужна не только для молений, а нужна для проведения проповеди — разъяснения учения Корана — религии Ислама… Надо учесть, что в августе 1989 года в Уфе будет отмечаться 1100-летие принятия нашими предками-булгарами мусульманства и 200-летие мусульманства в России. Надо понимать, что мы, все верующие и неверующие, обязаны проводить в жизнь и принимать однозначные и действенные меры для обеспечения проведения мероприятий партии и правительства с учетом интересов наций и верующих …» [12]. Письмо написано в корректной, доброжелательной манере. Точка зрения изложена аргументированно. Помимо приведенных сведений о мечети, автор также ссылался на декларацию прав народов России от 2 ноября 1917 года, цитировал резолюцию XIX Всесоюзной партийной конференции, чтобы показать свою компетентность в рассматриваемом вопросе. По примеру православных верующих, которые активизировались благодаря Тысячелетию
Крещения Руси, для верующих мусульман таким стимулом стало 1100-летие принятия булгарами ислама и 200-летие мусульманства в России. Стиль письма официальный, строгий. В конце размещено приглашение к дискуссии от редакции газеты по вопросу возврата мечети. Уже в ноябре, после официальной передачи здания мечети Ак-Масит общине, верующим М. Габидуллиным, была написана статья об истории и религиозной жизни этого уникального здания [6].
В 1990 году под заголовком «Органный зал или церковь?» в газете «Вечерний Челябинск» вышел рад статей и писем читателей о судьбе храма Александра Невского. Под заголовком «Ради имени великого полководца» 21 августа было опубликовано письмо верующих. В письме утверждалось, что «В Челябинске на деньги прихожан был воздвигнут памятник-храм Александру Невскому, человеку, которого знает каждый гражданин нашей Родины… Мы посетили концерты органной музыки, и нам пришлось видеть от 13—30 слушателей . Разве кто-нибудь из них вспомнил, что он в храме великого русского полководца? Нет. А нам бы хотелось видеть храм и на нем кресты, слышать пение прославляющих святого Александра Невского. Имя его должно бережно храниться в народной памяти как крупная соль отечественной земли» [17]. В рамках конфликта о судьбе храма выдвигались различные точки зрения, поэтому представленное письмо выглядит как ответ, реакция на них. Основным аргументом является то, что храм уже был построен на деньги верующих, а соответственно, он им принадлежит. Далее, следует указание на непопулярность органного зала среди жителей города. Представления о дальнейшей судьбе изложены в корректной доброжелательной форме, без лишних эмоций. В 1991 году на страницах газеты «Челябинский рабочий» вышла информационная статья «День Александра Невского». Ее автор — глава одной из православных общин города — подробно информировал читателям о личности Александра Невского и его заслугах перед отечеством. В конце статьи размещено приглашение на памятное празднование дня святого: на крестный ход в концерт [14]. Таким образом верующие активно привлекали внимание общественности к судьбе этого культового здания весь период перестройки. Вопрос с передачей этого здания оказался для города особенно болезненным, и на его разрешение ушло 25 лет.
Печально складывалась и судьба областных храмов. Например, в г. Троицке жители несколько лет пытались вернуть храм Александра Невского. В следствие медлительности властей. Члены церковного совета решили написать письмо в местную прессу. Они указывали на трудности и подчеркивали, что не будут «описывать хождения по инстанциям, от одного руководителя к другому и в Троицке, и в Челябинске… А мы, верующие, считаем, и об этом уже не раз говорили руководители разного ранга, что передачу храма надо осуществить быстрее, и просим это сделать в феврале… Местные власти находят все новые и новые причины, чтобы оттянуть переселение музея. Сначала говорили, что нет помещения… Просим ускорить переселение музея и передачу храма верующим. Со временем мы сами на свои пожертвования завершим ремонтные работы в нем» [2]. Сталкиваясь с личным негативным отношением к религии со стороны властей, верующие были вынуждены писать в государственные инстанции высшего уровня или обращаться в местные СМИ. Вполне возможна ситуация, что сотрудники на местах действительно хотели помочь верующим, но напуганные длительным негативным отношением к религиозным людям, члены общины просят просто быстрее вернуть храм. Несмотря на все просьбы верующих, храм был передан общине верующих только осенью 1991 года.
Существенную часть писем верующих в местные печатные издани я составляют просьбы о помощи в восстановлении культовых зданий и отчеты по расходу пожертвований. Как правило в таких письмах содержится краткая история храма, информация о его нынешнем состоянии и просьба о помощи с указанием реквизитов для перечисления денег. Такие статьи можно встретить о православном храме в Копейске [5], мечети в с. Кизильском [15; 16] и других памятниках историко-культурного наследия.
Представленная переписка вместила в себя ряд разноплановых тематик, которые были одинаково актуальны для периода перестройки. Они касаются всего спектра государственно-конфессиональных отношений: от вопросов религиозной политики и религии как части культуры, до решения проблем отдельных общин и конкретных людей. Из анализа , очевидно, что представленные виды переписки имеют характерные различия и сходства. Толчком к активизации переписки верующих и государственных органов стало Тысячелетие Крещения Руси, что в целом повлияло на дальнейшее развертывание отношений церкви и общества. Представленная переписка вместила в себя ряд дискурсивных событий и коммуникативных практик, касающихся всего спектра государственно-конфессиональных отношений. С точки зрения стилистики, письма написаны простым языком, без соблюдения каких-либо правил обращения к официальным органам. По форме больше представлены как жалоба или просьба о помощи. Соблюдение правил грамматики, орфографии, пунктуации практически отсутствует, что характерно для коммуникантов преклонного возраста. Принимая во внимание этот факт, становится понятной и стилистика текстов. Именно поэтому, местами встречается критика позиции властей в отношении религии. Реципиентами являются чиновники разного уровня. Коммуникативные ситуации были различными, и зависели от моделей поведения.
Верующие не только писали письма, но и специально готовили статьи для газет. Их характеризует некая однобокость в рассматриваемых вопросах, так как в отличии от переписки с государственными служащими, они представляют собой рассуждение по конкретной теме. Очевидно, что письма прошли предварительную коррекцию. Процедура коррекции могла быть произведена по нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы продемонстрировать однозначность позиции верующих по религиозным вопросам. Во-вторых, показать их людьми грамотными, равными собеседниками. В этом случае реципиентами являются не столько чиновники, сколько неравнодушная общественность разного статуса: ученые, деятели культуры и искусства, общественные объединения и рядовые граждане. Коммуникативная ситуация общения через СМИ предполагает формальный стиль общения, а соответственно выбор равных коммуникативных ролей. Коммуникаторами выступают люди разного возраста.
Верующие периода перестройки нуждались в таких коммуникативных взаимодействиях, именно от них зависела их дальнейшая судьба, решение проблем их общин. Помочь им могли только чиновники и общественность.
Переписка верующего населения в целом указывает на особенности трансформации общественного сознания, которое реализовывалось в активной и адаптивной моделях поведения людей. Модели поведения служащих государственных органов (активного поведения людей, «адаптивная» и «переходная» модели) представлены в данных дискурсивных практиках опосредованно, через рассуждения верующих и примеры, которые они приводят, прямо ссылаясь на взаимодействие с ними. Именно анализ дискурсивных формаций, в данном случае переписки, помогает осмыслить всю глубину проблем конкретного человека или общины, ярко демонстрирует отношение человека к ситуации, а также значимость этой темы для общества в целом.
Список литературы Дискурсивные формации периода перестройки: верующие и партийно-государственные руководители о конфессиональной политике (1985-1991 гг.)
- Алимов, Г. День как день. Репортаж из четырех религиозных общин/Г. Алимов, О. Дзюба, А. Лепихов, А. Шлиенков//Известия. -1986. -17 янв.
- Бакаева, А. Храм -верующим/А. Бакаева, В. Карачинцев//Челябинский рабочий. -1991. -9 янв.
- Беззубова, О. В. Знание как практика в концепции М. Фуко/О. В. Беззубова. Философия о знании и познании: актуальные проблемы: материалы Второй Всерос. науч. конф. (Ульяновск, 18-19 июня 2010); под ред. Н. Г. Баранец, А. Б. Веревкина. -Ульяновск: Ульяновский гос. ун-т, 2010. -С. 30-37.
- Брук, М. Свобода совести и дети/М. Брук//Челябинский рабочий. -1991. -22 авг.
- Быть в Копейске новой церкви//Челябинский рабочий. -1990. -15 июня.
- Габидуллин, М. Ак-Масит -Белая мечеть/М. Габидуллин//Челябинский рабочий. -1989. -14 нояб.
- ГАРФ. Р-6991. Д. 3051.
- ГАРФ. Р-6991. Д. 3198.
- ГАРФ. Р-6991. Д. 3394.
- ГАРФ. Р-6991. Д. 3752.
- ГАРФ. Р-6991. Д. 4144.
- Загретдинов, Б. Г. Вернуть мечети ее назначение/Б. Г. Загретдинов//Вечерний Челябинск. -1989. -9 янв.
- Йоргенсен, М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод/М. В. Йоргенсен, Л. Дж. Филлипс; пер. с англ. -2-е изд., испр. -Харьков: Гуманитарный Центр, 2008.
- Ленков, А. День Александра Невского -святого благоверного князя, защитника земли русской/А. Ленков//Челябинский рабочий. -1991. -5 дек.
- Мумбаев, Т. Мечеть строится/Т. Мумбаев//За коммунизм. -1990. -30 авг.
- Мумбаев, Т. Торжественная закладка мечети/Т. Мумбаев//За коммунизм. -1990. -14 июля.
- Орган или церковь?//Вечерний Челябинск. -1990. -21 авг.
- О передаче органного зала Челябинской епархии заместитель Губернатора Челябинской области А. Н. Косилов жителю г. Челябинска А. Г. Щеголькову//Канцелярия Епархиального Управления Челябинской и Златоустовской Епархии. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 18.
- Сосновских, Е. Г. Применение дискурс-анализа для изучения культурных практик и моделей поведения акторов государственно-конфессиональных отношений/Е. Г. Сосновских//Наука ЮУрГУ : материалы 67-й науч. конф. Секция социально-гуманитарных наук. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. -С. 752-757.
- Чернявская, В. Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность/В. Е. Чернявская. -М.: Директ-Медиа, 2014. -267 с. Дискурсивные формации периода перестройки: верующие Е. Г. Сосновских и партийно-государственные руководители…
- Юрчак, А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение./А. Юрчак; предисл. А. Беляева; пер. с англ. -М.: Новое литературное обозрение, 2014. -604 с.