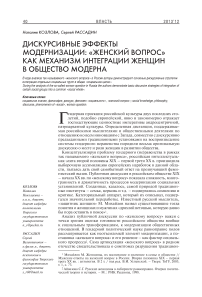Дискурсивные эффекты модернизации: "женский вопрос" как механизм интеграции женщин в общество модерна
Автор: Козлова Наталия Николаевна, Рассадин Сергей Валентинович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В ходе анализа так называемого «женского вопроса» в России авторы демонстрируют основные дискурсивные стратегии интеграции отдельных социальных групп в общее «социальное целое».
Социальное знание, философия, дискурс, феномен "социального", "женский вопрос"
Короткий адрес: https://sciup.org/170166739
IDR: 170166739
Текст научной статьи Дискурсивные эффекты модернизации: "женский вопрос" как механизм интеграции женщин в общество модерна
Г ендерная проекция российской культуры двух последних сто -летий, подобно европейской, явно и закономерно отражает господствующие ценностные императивы андроцентричной, патриархатной культуры. Определенная дистанция, поддерживае -мая российскими мыслителями и общественными деятелями по отношению ко всем инновациям с Запада, совместно с дискурсивно предзаданными традиционными установками на воспроизведение системы гендерного неравенства породили весьма оригинальную дискуссию о месте и роли женщин в развитии общества.
Концептуализируя проблему гендерного (не)равенства в рамках так называемого «женского вопроса», российская интеллектуаль-ная элита второй половины XIX — первой трети XX в. производила выборочную ассимиляцию европейских наработок в данной обла сти, пытаясь дать свой самобытный ответ на прозвучавший феми-нистский вызов. Публичная дискуссия в российском обществе XIX — начала XX вв. по «женскому вопросу» показала сложность, много -гранность и драматичность процессов модернизации социальных установлений. Созданные, казалось, самой природой традицион-ные институты — семья, церковь и т.д. — подвергались сомнению и критике. Категориальный аппарат, который их описывал, подвер гался значительной переработке. Известный русский мыслитель, «защитник женщин» М. Михайлов назвал существовавшие тогда понятия о женщинах и мужчинах «дряхлой ветошью, которую давно бы пора оставить в покое»1.
Анализ публичной дискуссии по «женскому вопросу» важен с точки зрения оценки готовности российского общества вообще к социальным трансформациям, к модернизации общественных отношений. В гендерной политической науке равноправие полов рассматривается как неотъемлемый элемент модернизации, а по -становка «женского вопроса» и его решение — как фактор социаль-ного прогресса2. Сама артикуляция «женского вопроса» в родном отечестве свидетельствовала о симптомах разрушения традицион ной культуры, регулирующей отношения между полами, расчленении монолитного «домостроевского» дискурса и плюрали-зации моделей поведения женщин и муж -чин.
Общественная дискуссия в рамках «женского вопроса» разворачивается уже в пореформенной России, хотя первые публикации о роли и значении женщин встречаются еще в XVIII в. Определяя конкретную историческую эпоху поста -новки «женского вопроса» в России, мы солидаризируемся с теми исследовате лями, которые поворотным для этого процесса моментом считают время окон чания Крымской войны1. По мнению российского специалиста в области ген дерных исследований И.И. Юкиной, в более широком плане постановка «жен ского вопроса» перекликалась с другими актуальными вопросами — крестьянским, жилищным и пр.2, обсуждение которых позволяло осмыслить новую конфигура цию социального мира, выраженную в форме «российской нации».
Первоначально осмысление «женского вопроса» происходило в узких кругах муж -ской интеллектуальной элиты и носило публицистический характер. При этом обе интеллектуальные партии квалифициро вали современное им общество порефор менной России как «больное», требующее «лечения». «Только коренное преобразо-вание женского воспитания, обществен ных прав женщины и семейных отноше ний — представляется мне спасением от нравственной шаткости, которою, как старческою немочью, больно современ ное общество», — писал М. Михайлов3. Однако пути и способы «врачебной прак тики» предлагались различные, в ряде случаев прямо противоположные: одни публицисты предлагали женщинам идти в монастырь, другие — в парламент.
Мужской призыв к постановке и реше нию «женского вопроса» рассматривался отечественными и зарубежными мысли телями как специфическая черта россий ского женского движения4. Это давало повод многим исследователям трактовать данный факт как неспособность рос сийских женщин обозначить и решать свои «женские» проблемы собственными силами. А. Дмоховский объяснял отсут-ствие женской инициативы в собственном освобождении глубокими социальными причинами - силой подчиненного поло жения: «Женщины усвоили себе вполне рабские понятия; они сочли именно своим преимуществом, своим правом права мужей, отцов и господ над ними; они сочли своим преимуществом права мужей, отцов и господ бить и истязать их»5. Возможно, артикуляция «женского вопроса» в России интеллектуальными усилиями мужчин является закономерно стью и отражает андроцентризм как соци ального знания, так и социальной жизни. В рамках традиционного общества только мужчины титульной этнической общно сти привилегированных социальных ста тусов являлись носителями власти знания (в терминах М. Фуко), имели возможность приобрести образование и реализовать его в общественной практике. Подобная ситуация, когда публичную дискуссию начинают представители правящего класса, является вполне закономерной и наблюдается в тех случаях, когда в обще ственную жизнь вступают периферийные социальные общности. Например, в дис-куссии о решении крестьянского вопроса в России сами крестьяне участия практи чески не принимали. На начальных эта -пах аболиционистского движения в США чернокожее население не отстаивало свои права с высоких трибун.
При этом для постановки обществен ной проблемы и выработки предложений по ее решению отсутствие социального опыта признавалось неважным. В дан -ном случае природа андроцентристского знания предполагала, что можно не быть женщиной, но говорить о проблемах дан ной социальной общности, что приводило к артикуляции скорее «мужского» взгляда. П. Бакунин писал, что женщины «всей душой, всей жизнью и всеми упованиями именно только и стремятся к такой зави симости [от мужчин]. Если они, эти бед -ные и угнетенные женщины, чего не хотят и чего всего более боятся, так именно только своей свободы»1.
Поэтому принципиально важно для маркировки генезиса «женского вопроса» зафиксировать факт появления женского текста — «Жалобы женщины», опубли-кованного в журнале «Современник» в 1857 г. Этот факт выводит нас на начало процесса формирования нового типа дис курса, при котором маргинальные соци альные группы говорят от имени самих себя, создавая тем самым основу для формирования гражданского общества и системы представительной демократии. По видимому, именно в связи с отсут ствием у женщин права и практик говоре ния, непосредственно связанных с дефи цитом политической власти, мог возник нуть такой тип текста, как жалоба. Далее к дебатам подключились женщины из среды образованных женщин дворянок, которым и до 1860 -х гг. было доступно образование. Фразы: «Я как женщина», «Я как мать», — будут структурировать новый тип говорения, построенный на женском опыте и на признании его уникальности.
Рубежным моментом в дискуссии по «женскому вопросу» стала статья извест ного российского хирурга Н. Пирогова, опубликованнаявжурнале«Морскойсбор -ник» в 1856 г.2 Позиция Пирогова знаме-нует шаг в сторону перехода от морально -философской позиции к практическому решению «женского вопроса». В рамках утилитарного дискурса он акцентирует внимание на пользе для общества труда медицинских сестер, которые работали с хирургом вместе в Крымскую кампанию. Традиционный поиск женской сущности («злое или доброе естество у женщины») знаменитого эскулапа в принципе не интересовал. Как врач, Пирогов утверж дает, что констатация великой «разницы в организации полов, — например, меньший вес в мозгу и проч.», — нельзя принимать во внимание3. Практическая деятельность женщин — вот кредо Пирогова.
Высказанная публично точка зрения
Пирогова породила мощный всплеск общественной дискуссии. Как оценить ее качество, насколько «женский вопрос» действительно волновал общественное мнение? Известный русский правовед, либерал Б.Н. Чичерин предлагал для адек-ватного анализа любой социальной про блемы в рамках общественного мнения использовать такие критерии, как число публикаций на данную тему; наличие не только критики, но и конструктивных предложений; уровень аргументации4. Если следовать алгоритму Чичерина, то следует отметить, что указатель литературы по «женскому вопросу» на русском языке составил за 1850-е—1860-е гг. порядка 140 статей. Другие критерии оценки соци-альной значимости «женского вопроса» в общественном мнении мы можем при менить при анализе самих текстов с тем, чтобы сделать собственный вывод о том, утвердилась ли женская проблема «как основная в умах русской интеллигенции».
На первых порах в рамках публичных дебатов «женский вопрос» заключался в частичном исследовании проблем жен ского образования и улучшении его и лишь позднее развился во всеобъемлю-щую антропологическую дискуссию об индивидуальной одаренности и особен ной судьбе женщин. Если некоторыми диспутантами признавалось, что женщина «слаба, порочна и неразумна» (триада Прудона), то дальнейшие рассуждения о женских правах оказывались бессмыслен ными.
Как правило, отечественные исследо ватели, анализируя статьи в российских журналах XIX в., пишут, что в дискуссии по женскому вопросу явно обозначаются либеральный, демократический и кон сервативный подходы5. На наш взгляд, либеральные и демократические взгляды практически совпадают, что позволяет говорить скорее о двух типах социального дискурса в решении «женского вопроса»: 1) эгалитарно-прогрессистском и 2) ортодоксально - консервативном.
Главные пункты различия в позициях обеих сторон сводились к признанию (непризнанию) укоренненности «жен-ского вопроса» в России; в разной оценке российской действительности, воплощав щей в «женском вопросе» либо кризис традиционного общества, либо прогресс в его развитии; в различных способах описания характеристик полов.
Анализируя труды представителей 1-го типа дискурса, можно утверждать, что он постепенно трансформировался в научный. М. Михайлов в своих парижских письмах показал связь «женского вопроса» с устройством семьи, с развитием женской личности. Доводы М. Михайлова заимствованы из европейских работ по антропологии, медицине и феминизму. Русский марксист Ю.Г. Жуковский утверждал тождество подчиненности женщин и эксплуатации рабочего класса1. Известный отечественный публицист Д.И. Писарев видел главную причину женской несвободы в господстве мужчины, показав тем самым патриархатность и андроцентричность российского социума: «И если женщина кажется менее развитой, то это результат не природной неполноценности, а недостаточного развития, проистекающего от ее бездеятельности»2.
Вторая, консервативная, точка зрения формировалась в весьма своеобразных рамках публицистики, с крайне малым объемом действительно убедительных аргументов. Консерваторы живописали, по сути, мифологические картины, идеальные образы и модели существования русской женщины. В изучаемом дискурсе можно выделить две основные стратегии.
-
1. «Своему» образу противопоставляется «чужой». Описание последнего, как правило, насыщается обилием негативных коннотаций, рельефно манифестирующих превосходство и чистоту «своего» идеального образа, чаще всего по периметру национальной идентичности.
-
2. Стратегия максимального наполнения созданного идеального образа всевозможными атрибутами превосходства, включая использование и изначально негативных свойств с последующим изменением их полярности, еще более подчеркивающих риторическую силу дискурса.
Пр актич ес ки в се пр ед ставители «любомудров»-консерваторов считали «женский вопрос» порождением социо- культурной ситуации в Западной Европе, интеллектуальные истоки которой были заложены маркизом де Кондорсе, М. Уоллстонкрафт, Дж.С. Миллем, Ж. Санд, Р. Мальтусом и др. Поэтому противники постановки «женского вопроса» в форме расширения прав женщин пытались доказать его искусственность для России.
Интересно, что положение женщин в обществе связывалось и консерваторами, и прогрессистами исключительно с их групповыми качествами. Практически во всех текстах можно встретить понятие «женщина», а не «женщины». Индивидуальное своеобразие представительниц женского, впрочем, как и мужского, пола не артикулируется при обсуждении «женского вопроса». Природа женщины трактуется мыслителями всех направлений как неизменная. Показательным в плане аргументации консерваторов является разбор женских персоналий не реальных женщин, а литературных персонажей, представляющих плод мужской фантазии и творчества (пушкинская Татьяна).
Стремясь показать противоположность качеств женского и мужского полов в рамках бинарных оппозиций: например, «сила – бессилие», консерваторы доказывали, что женские качества менее значимы по сравнению с мужскими: например, сила важнее красоты. На наш взгляд, главная задача такой стратегии – не допустить конкуренции мужчин и женщин.
В обсуждении «женского вопроса» в позициях консерваторов наиболее явственно прослеживалась общинная, соборная психология, которая в качестве основной ценности выдвигает интересы целого3. Женские проблемы, с точки зрения П. Бакунина, могут быть вписаны только в контекст общих, общиннообщественных задач и не могут претендовать на обособленность. Монолитное видение общественного организма консерваторами определяло женщин как часть целого, при этом обособленные интересы женщин не были связаны с интересами общества как целого, а противостояли им. Поэтому групповые женские интересы представляли прямую угрозу целостности общества. Отсюда и нежелание консерваторов пересматривать традиционные жен- ские роли: семья, дети – главный приоритет женщин.
Практически все консерваторы полагали, что существующий социальный порядок выгоден для женщин. Поэтому они не верили в то, что женщина может добровольно отказаться от него. Более того, ценность семейного очага заключается, с точки зрения М. Меньшикова, в том, что он позволит женщинам избежать новых видов эсклуатации, неизбежно следующих за равноправием.
Таким образом, в противовес эгалитарно-прогрессистскому типу социального дискурса о женщине ортодоксальноконсервативный дискурс четко увязывал национальную и гендерную проблематику, формируя систему бинарных оппозиций для характеристики «русских своих» и «нерусских чужих». В «женском вопросе» авторы консервативного направления увидели напряженность отношений русской и нерусской культур: православие против католичества, дух против плоти, мораль против права, традиция против модернизации, идеализм против практицизма, биологический детерминизм против социального конструктивизма.
Данные мыслители рассматривали гендерное неравенство в России как закономерное и желаемое, оправдывая его традиционными стереотипами относительно неспособности женщин выполнять общественные роли за исключением семейных, отказывая им в способности быть культуртрегерами. Принимая позиции почвенничества и консерватизма, они отрицали саму возможность постановки и тем более решения «женского вопроса» как чуждого потребностям российского общества. С позиций культурного противостояния России и Запада они отстаивали приоритет ценностей российской цивилизации в рамках гендерной системы, связывали постановку и прогрессистское решение «женского вопроса» с крушением основ традиционного общества, разрушением российской цивилизации, потерей национальной самобытности.
Прогрессисты же отмечали в рамках нравственной философии несправедливость неравноправия полов, а с экономической и социальной точки зрения – безусловную практическую пользу потенциальной общественной деятельности женщин.
Подводя итог, можно утверждать, что обсуждение «женского вопроса» в России в конце XIX в. не только превратилось в широкомасштабное обсуждение судьбы российского общества в целом, но и показало фундаментальную сложность и рассогласованность смыслов концепта «социальное» как такового.