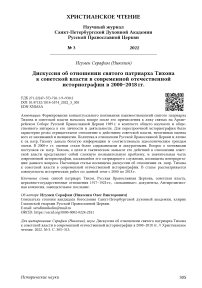Дискуссия об отношении святого патриарха Тихона к советской власти в современной отечественной историографии в 2000-2018 гг
Автор: Николин Олег Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 (102), 2022 года.
Бесплатный доступ
Формирование концептуального понимания взаимоотношений святого патриарха Тихона и советской власти началось вскоре после его причисления к лику святых на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 1989 г. в контексте общего научного и общественного интереса к его личности и деятельности. Для перестроечной историографии было характерно резко отрицательное отношение к действиям советской власти, негативная оценка всех ее начинаний и инициатив. Политика в отношении Русской Православной Церкви и лично к св. патр. Тихону давала богатую информацию и соответствовала идеологическим трендам эпохи. В 2000-е гг. оценки стали более сдержанными и аккуратными. Вопрос о мотивации поступков св. патр. Тихона, о цели и тактическом замысле его действий в отношении советской власти представляет собой сложную познавательную проблему, и значительная часть современной историографии, касающейся его патриаршего служения, посвящена интерпретации данного вопроса. Настоящая статья посвящена дискуссии об отношении св. патр. Тихона к советской власти в современной отечественной историографии. В статье рассматривается совокупность исторических работ по данной теме с 2000 по 2018 г.
Святой патриарх тихон, русская православная церковь, советская власть, церковно-государственные отношения 1917-1925 гг, «покаянные» документы, антирелигиозная комиссия, завещательное послание
Короткий адрес: https://sciup.org/140295646
IDR: 140295646 | УДК: 271.22(47+57)-726.1-9+930.2 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_3_305
Текст научной статьи Дискуссия об отношении святого патриарха Тихона к советской власти в современной отечественной историографии в 2000-2018 гг
Вопрос о мотивации поступков св. патр. Тихона, о цели и тактическом замысле его действий в отношении советской власти представляет собой сложную познавательную проблему, и значительная часть современной историографии, касающейся его патриаршего служения, посвящена интерпретации данного вопроса.
Комментаторы следственного дела св. патр. Тихона высказывали следующее мнение по поводу его компромисса с советской властью: «Святой Патриарх Тихон долгое время сражался в открытом бою, необходимом для поднятия мученического, исповеднического духа в Церкви, но потом увидел, что нужно перестроить сознание церковного народа и духовенства, перевести церковную жизнь на рельсы острожного, затяжного, полуподпольного противостояния, выиграть время, чтобы сохранить по возможности свою церковную армию» [Сборник, 2000, 52].
Проблему взаимоотношений св. патр. Тихона и советской власти впервые целенаправленно рассмотрел Д. В. Сафонов в кандидатской диссертации, защищенной в 2004 г., а также в последовавшей серии статей и в фундаментальной монографии, которая исчерпывающе осветила данную проблему.
Д. В. Сафонов разработал следующую концепцию взаимоотношений св. патр. Тихона и советской власти. В течение 1917 — начала 1922 г. позиция св. патр. Тихона в отношении советской власти изменялась от осуждения к лояльному нейтралитету. Советская власть не добилась от него активной лояльности, то есть публичных заявлений и действий. Позиция советского государства была четко обозначена и состояла в уничтожении Русской Православной Церкви, поэтому началось систематическое преследование св. патр. Тихона с целью устранить его от управления Церковью. В ответ Святитель перешел на особые формы управления Церковью: проводились нелегальные совещания епископата, было приостановлено письменное делопроизводство. В марте 1922 г. ГПУ приступило к активным действиям против Церкви и св. патр. Тихона, ставя перед собой три цели: дезорганизовать Патриарха путем его ареста, добиться от него полной лояльности к советской власти и заставить свидетельствовать против священников, обвиненных в сопротивлении изъятию церковных ценностей. Однако основного от св. патр. Тихона так и не добились. Удалось только получить осуждение находящегося за рубежом духовенства, которому ничего не угрожало, осуждение священников, сопротивлявшихся изъятию церковных ценностей, указ заграничному духовенству о передаче имущества советской власти и др. Д В. Сафонов установил, что со временем менялась и тактика действий советской власти против св. патр. Тихона, и его тактика по отношению к ней. Советская власть стремилась подорвать авторитет Святителя среди духовенства и мирян, а также активно поддерживала обновленцев. Ответная тактика св. патр. Тихона сводилась к тому, чтобы путем переговоров и формального согласия с требованиями советской власти лавировать так, чтобы требования эти не реализовывались.
Иное концептуальное понимание взаимоотношений св. патр. Тихона и советской власти предложил В. В. Лобанов. Оно состояло в следующем. Автор констатировал, что Святитель в момент избрания Патриархом Московским и всея России оказался в сложнейшем, не имеющем аналогов в истории России положении. Одновременно с его избранием у власти оказались люди, которые открыто заявляли о своей антирелигиозной позиции и провозглашали как линию своего поведения всемерную борьбу с Русской Православной Церковью, создавая для этого специальные организационные структуры. Основой церковной политики советской власти, как указывает В. В. Лобанов, стала линия на внутренний раскол Церкви и ее саморазрушение, в чем основная роль отводилась обновленческому движению: «Реальностью для Русской Церкви стала более опасная, чем внешние гонения, угроза разрушения изнутри» [Лобанов, 2008а, 98]. Кульминационным моментом травли и репрессий в отношении св. патр. Тихона явилась подготовка суда над ним с прогнозируемым расстрелом. В. В. Лобанов считает, что этим планам помешало не одно какое-то обстоятельство, а совокупность факторов: внутрипартийная борьба за власть, смерть Ленина, международная обстановка. Наиболее значимым он считает первый из этих факторов [Лобанов, 2008а].
Уступки св. патр. Тихона советской власти нельзя считать чрезмерными, учитывая условия, в которых они делались.
Основная позиция В. В. Лобанова сводится к тому, что хотя советская власть, используя властные рычаги и прямое насилие, достигла больших успехов в деятельности против Русской Православной Церкви, линия взаимоотношений с ней, избранная св. патр. Тихоном, оказалась тактически правильной. Основной цели — сохранения института Церкви — Святитель достиг полностью. Церковь сохранила организационное единство, не была полностью уничтожена, были решены некоторые внутренние проблемы, благодаря чему в дальнейшем стало возможным восстановление церковных структур.
В данном контексте важно то обстоятельство, что св. патр. Тихону удалось достичь преемственности церковной власти и, соответственно, проводимой им политики в отношении советской власти. В. В. Лобанов смог наглядно показать, что митр. Петр (Полянский), будучи местоблюстителем патриаршего престола, продолжал политику Святителя в отношении советской власти, за что, по сути, и был репрессирован.
Д. В. Сафонов и В. В. Лобанов использовали различный круг источников. Если первый опирался преимущественно на материалы следственного дела, которое велось карательными органами против св. патр. Тихона, то второй в большей степени использовал документы партийных и государственных органов — Антирелигиозной комиссии и Комиссии по изъятию церковных ценностей. Круг источников предопределил и разницу в выводах. Д. В. Сафонов утверждает, что св. патр. Тихон действовал только в рамках того выбора, который ему давала советская власть, сводя личностный фактор к минимуму. В. В. Лобанов же считал, что в действиях Святителя проявились прежде всего его личные убеждения в том, что Церковь должна находиться вне политики, а иерархия и духовенство никоим образом не должны вмешиваться в политические события и быть лояльными к действиям власти, какой бы она ни была. Таким образом, Д. В. Сафонов придает первенствующее значение внешнему фактору в политике, которую проводил св. патр. Тихон, а В. В. Лобанов — внутреннему.
Работа В. В. Лобанова получила положительные отклики со стороны научного сообщества. По оценкам рецензентов, «она позволит более глубоко изучить вопросы церковно-государственных отношений в 1917–1925 гг., понять политику в отношении советской власти св. Патриарха Тихона в первые годы существования Церкви в необычайно тяжелых условиях того времени» [Колесник, Кривошеева, 2010, 140–142]. Несогласие вызвал только тезис о преемственности политики, которую проводил св. патр. Тихон в отношении власти, и дальнейших действий митр. Сергия (Страгородского). Рецензенты отмечали, что «компромиссы Патриарха Тихона и компромиссы в отношениях с безбожным государством митрополита Сергия имеют различную природу, и их позиции принципиально различаются в этом вопросе» [Колесник, Кривошеева, 2010, 142].
-
В. В. Лобанов подчеркивал, что компромисс был не только со стороны св. патр. Тихона, но и со стороны советской власти, хотя и «неравный», и он представлял собой взаимный процесс. Одним из наиболее серьезных компромиссов, на который пошла богоборческая власть, стало сначала затягивание, а затем и отмена суда над Святителем с заранее намеченным приговором в виде расстрела.
Высшей точкой компромисса с советской властью С. Г. Петров считал три «покаянных» документа — заявление в Верховный суд РСФСР от 16 июня 1923 г., обращения Святителя от 26 июня 1923 г. и от 1 июля того же года. Исследователь называл их «прагматически и жестоко выверенным высшими органами власти в стране компромиссом с главой Русской Церкви» [Петров, 2002б, 236]. При этом компромисс был двусторонним. Советская власть пошла на соглашение со св. патр. Тихоном, разрешив ему заниматься церковной деятельностью, и отказалась от планов поэтапного уничтожения Русской Церкви: сначала Патриарха, затем духовенства и мирян, а после — и связанных с ней обновленцев. Св. патр. Тихон пошел на компромисс, поскольку не видел иного выхода для блага Церкви.
Как установили исследователи, параметры компромисса излагались в двух записках — Е.М. Ярославского от 11 июня 1923 г. и заседаний Антирелигиозной комиссии от 12 июня того же года. Главным явилось то, чтобы в обмен на освобождение из тюрьмы и отмену запрета на церковную деятельность от Патриарха потребовать признание правильности привлечения его к суду, раскаяние в действиях против советской власти, отмежевание от контрреволюционных организаций, а также проведение некоторых церковных реформ, в частности введения григорианского календаря. Со стороны Святителя исполнением своей части компромисса стало широко известное заявление в Верховный суд РСФСР от 16 июня 1923 г. В. В. Лобанов подчеркивал, что в этом вынужденном документе нет ничего нового, св. патр. Тихон уже излагал позицию в отношении советской власти [Лобанов, 2004в]. Конечно, он не мог симпатизировать богоборческой власти, но и идти на активное сопротивление, организовывать ее насильственное свержение не мог тоже, поскольку такое поведение противоречило его христианскому пониманию отношений Церкви и государства. В. В. Лобанов полагал, что подобная мотивация была у св. патр. Тихона, а не «малодушие и приспособленчество», в которых обвиняли его некоторые. Дальнейшие события подтвердили правильность его позиции: обновленчество потерпело поражение, церковная организация и единство сохранились.
Однако формально следствие над св. патр. Тихоном не было прекращено. Власть стремилась сохранять рычаги влияния на него и в случае необходимости оказывать давление. В частности, давление оказывалось, чтобы ввести в России новый календарь и дополнить Высшее церковное управление обновленцем Красницким. Таким образом, компромисс со стороны св. патр. Тихона, по мнению В. В. Лобанова, свелся к ряду политических заявлений. В марте 1924 г. дело против Святителя официально закрыли, но угроза судебного преследования сохранялась, в дальнейшем следствие было возобновлено [Сафонов, 2005а].
Д. В. Сафонов выражал несогласие с высказывавшейся в историографии точкой зрения, что св. патр. Тихон шел на большие уступки властям и был сторонником компромисса с ними. По мнению исследователя, тактика Святителя состояла в другом — в ответ на угрозы репрессий по отношению к Русской Православной Церкви выпускать послания, в которых, как правило, требуемое исполнялось лишь частично. На самом деле он не собирался делать то, о чем заявлял, и в частных беседах сообщал верующим о вынужденном характере своих посланий [Сафонов, 2004б].
-
С. Н. Иванов признал позицию св. патр. Тихона по вопросу об изъятии церковных ценностей правильной, соответствующей церковным канонам. История оправдала недоверие народа к заявлениям советской пропаганды. С. Н. Иванов высказал мнение, что «образ действий Предстоятеля Русской Церкви по защите православных святынь в условиях ареста членов Священного Синода, дискредитирующей его пропагандистской кампании, предательства завербованных ГПУ священнослужителей, непонимания со стороны некоторых авторитетных соратников-иерархов и нависшей над ним угрозы расстрельного приговора, стал видимой печатью его святости» [Иванов, 2017, 88].
Проблеме взаимоотношений советской власти и св. патр. Тихона мною также был посвящен ряд работ [Серафим Николин, 2017а; Серафим Николин, 2017б; Серафим Николин, 2018], в которых была детально реконструирована их эволюция. В данных работах наиболее значимым для понимания этого процесса посланиям Святителя была дана обстоятельная характеристика. В целом, в исследованиях была выработана точка зрения о том, что политику св. патр. Тихона можно расценивать как компромисс, направленный на сохранение Русской Православной Церкви, и эту политику следует признать удачной.
Идея, что вся деятельность св. патр. Тихона в советский период была направлена на сохранение единства Церкви, несмотря на давление советской власти, проникла в популярную литературу, где обрела большую популярность [Волк, 2006]. Можно констатировать, что она утвердилась в современной историографии.
Не все исследователи согласны с тем, что взаимоотношения св. патр. Тихона и советской власти носили «вынужденно-компромиссный» характер. Указывалось, что в историографии не раскрывается механизм этой «соглашательской позиции», а сама проблема выносится в сферу этических рассуждений о степени допустимости уступок в деле веры и о цене таковых. С подобной критикой выступила Е. А. Бесова [Бесова, 2005]. Сама она попыталась выявить «механизмы» взаимоотношений Святителя и советской власти, опираясь на четыре его послания (от 19 января (1 февраля) и 18 марта 1918 г., 21 июля 1919 г. и предсмертного), в которых непосредственно высказывалось отношение к советской власти. Попытка оказалась полностью несостоятельной методически. Во-первых, позиция св. патр. Тихона отражалась не только в подвергшихся анализу текстах, но в гораздо более широком круге и посланий, и источников иных видов. Во-вторых, Е. А. Бесова полностью проигнорировала проблему авторства привлеченных ею текстов и их подлинности, не подвергая сомнению, что тексты полностью принадлежат Святителю, и такой подход несомненно является ошибочным.
В результате Е. А. Бесова предлагает собственное понимание этой сложной проблемы: св. патр. Тихон перешел от объявления анафемы советской власти к полному ее признанию, причем мотивацией такой эволюции названо то, что он спасал «духовно-нравственное ядро России», способствуя единству нации и укрепляя государственность, то есть фактически — большевистское государство [Бесова, 2005, 87–88]. Е. А. Бесова отрицает, что Предстоятель руководствовался необходимостью сохранения Церкви в условиях антицерковного государства, но отсылает к традиции Русской Православной Церкви, которая всегда оставалась с паствой и на «духовномистическом уровне способствовала укреплению государственности» [Бесова, 2005, 89]. Таким образом, получалось, что патриаршее служение Святителя было направлено на то, чтобы укреплять большевистское государство, которое активно боролось с Церковью. Абсурдность подобного утверждения очевидна.
Неубедительны и другие выводы работы Е. А. Бесовой. Например, она утверждала, что «патриарх Тихон не мог идти на компромисс с большевиками», но он « абсолютно (выделено нами. — игум. С. ) признал эту власть как единственно законную и не подлежащую сомнению со стороны справедливости ее существования», а также якобы знал, что сила большевиков заключается в самом народе [Бесова, 2005, 96]. Обращает на себя внимание тот факт, что данные утверждения сделаны после того, как появились источниковедчески ориентированные, строго аргументированные труды Д. В. Сафонова и В. В. Лобанова, в которых выяснялась подлинная история подготовки посланий св. патр. Тихона.
При источниковедческом сопоставительном анализе посланий Святителя и документов Антирелигиозной комиссии был установлен механизм давления на Святителя со стороны советских репрессивных органов с целью добиться желаемых ими решений. Однако не менее важным достижением современной историографии стало то, что выяснен механизм реакции св. патр. Тихона и его окружения на такое давление. С. Г. Петров приводит показательный пример: Святитель мог обходить партийногосударственную цензуру, не дававшую разрешения на обнародование документов, прибегая к их тиражированию и распространению исключительно по внутрицерков-ным каналам, несмотря на то, что и их репрессивные органы стремились поставить под контроль [Петров, 2013а].
К числу спорных моментов в биографии св. патр. Тихона относится его кончина. Сразу после нее появилось мнение, что она была неестественной, что Святитель был отравлен карательными органами [Дело, 2012]. После освобождения из-под ареста св. патр. Тихон объединил вокруг себя Церковь, успешно боролся с обновленческим расколом, что могло трактоваться советской властью в нежелательном аспекте. Большинство исследователей все-таки связывают, иногда косвенно, иногда прямо, кончину с подготовкой «завещательного послания» и конкретно — с систематической травлей, развязанной против Святителя сотрудником ГПУ Е. А. Тучковым.
Т. А. Полетаева, например, писала, что силы и здоровье Святителя подорвала напряженная борьба с наступлением на Русскую Православную Церковь, а конкретно — переписка с Е. А. Тучковым [Полетаева, 2007].
В современной историографии нет единого мнения по поводу обстоятельств кончины св. патр. Тихона. Д. В. Сафонов, опираясь на воспоминания, причем даже иногда пересказанные третьими лицами, считал, что Святитель был отравлен [Сафонов, 2010в]. Попытку окончательно разобраться в вопросе предпринял В.В. Лобанов [Лобанов, 2009б]. Он детально реконструировал события, предшествовавшие кончине, всесторонне проанализировал касающиеся ее источники (мемуарные и исходившие из советских репрессивных органов). Свидетельства о насильственной кончине св. патр. Тихона были квалифицированы им как недостоверные, историк пришел к выводу, что кончина Святителя «скорее всего, была естественной» [Лобанов, 2010б, 210], «если, конечно, считать „естественными“ те нечеловеческие условия, в которых осуществлялось первосвятительское служение» его [Лобанов, 2008а, 192]. Однако предложенная исследователем формулировка свидетельствует о том, что полной уверенности у него все-таки не было. Несвоевременность кончины св. патр. Тихона В. В. Лобанов связывал с «нечеловеческими условиями» последних лет его жизни, постоянными угрозами, давлением, арестами. «Это было медленное умирание за свою паству», — резюмировал он.
Именно вопрос о компромиссе в отношениях с советской властью помогает лучше всего и полнее раскрыть личность св. патр. Тихона, понять мотивацию его поступков после 1917 г. и подлинную, неоспоримую преданность Русской Православной Церкви, когда ее интересы были для него выше любых личных выгод и даже выше спасения собственной жизни.
Заключение
Отношение св. патр. Тихона к советской власти стало одной из тем современной историографии, которую рассматривали отечественные историки, изучавшие жизнь и деятельность Первосвятителя. Этой проблемы в той или иной степени касались практически все работы, посвященные советскому периоду его жизни. Исследователями было достоверно установлено, что на протяжении 1918–1925 гг. отношение св. Тихона к советской власти претерпело существенную эволюцию. Первоначально Святитель резко критиковал ее за злодеяния, насилие и кровопролитие, отзывался как на общее положение дел в стране, так и на конкретные события, которые считал наиболее важными. Необходимо отметить, что это было только моральное осуждение, призывы к покаянию, св. патр. Тихон никогда не требовал насильственного свержения советской богоборческой власти или изменения формы правления в стране. В современных исследованиях доказан и подтвержден достоверными источниками тезис о том, что Святитель стремился быть над политической борьбой, не поддерживать ни одно из политических течений, в том числе и Белое движение. Первостепенной его заботой стало неприкосновенное единство Русской Православной Церкви, сохранение ее канонических устоев и церковного управления, защита ее прав, а также прав епископата и паствы. Для достижения этой цели Святитель был готов пойти на некоторые компромиссы с властью, отказаться от того, что являлось в церковной жизни второстепенным.
В современной историографии утвердилось мнение, что для спасения Русской Православной Церкви от раскола и гибели св. патр. Тихон вынужден был согласиться на существенные уступки требованиям партийно-государственных органов и даже признать правильность своего ареста, антисоветскую деятельность и заявить о поддержке советской власти. В 1920-е гг. каждое действие Святителя безосновательно рассматривалось как контрреволюционное и могло быть использовано для дальнейших репрессий по отношению ко всей Церкви и епископату.
Статус сложной дискуссии приобрел в современной исторической науке вопрос о характере подчинения св. патр. Тихона требованиям советской власти. Наиболее авторитетные авторы (свящ. Димитрий Сафонов, В. В. Лобанов и др.) считают, что поддержка являлась декларативной и противоречила внутренним убеждениям Святителя, который пользовался любой возможностью для сохранения церковной жизни. Такая позиция наглядно проявилась в обстоятельно описанной в литературе упорной, перманентной борьбе, которую он вел за сохранение в обиходе Русской Православной Церкви юлианского календарного стиля.
В современных исследованиях доказан тезис о том, что тактика св. патр. Тихона по отношению к советской власти состояла в том, чтобы в ответ на угрозы репрессий по отношению к Русской Православной Церкви готовить послания с необходимыми партийно-государственным органам оценками и признаниями, но на деле Святитель не собирался предпринимать никаких действий для реализации обещанного.
В результате глубокого источниковедческого дискурса, предпринятого в 2000– 2018 гг., бесспорно установлен вынужденный характер наиболее важных по отношению к советской власти посланий св. патр. Тихона 1919–1925 гг., выяснено вмешательство в основное содержание и участие в редактировании этих документов высших партийных, государственных и карательных (ГПУ-ОГПУ) органов. Данное обстоятельство не позволяет в полной мере признать авторство данных текстов за Святителем, определив его как коллективное.
В современной исторической науке признано, что св. патр. Тихон достиг своей главной цели — не допустил полного уничтожения Русской Православной Церкви и ее раскола, тем самым создав основу для ее возрождения в конце XX в.
Список литературы Дискуссия об отношении святого патриарха Тихона к советской власти в современной отечественной историографии в 2000-2018 гг
- Бесова (2005) — Бесова Е.А. Эволюция отношений патриарха Тихона и Советской власти: от анафемы к примирению // Проблемы отечественной истории: сборник научных трудов. М.: Изд-во МАДИ, 2005. С. 87-98.
- Волк (2006) — Волк А.А. Подвиг исповедничества. К истории процесса над Патриархом Тихоном // К единству! 2006. № 1. С. 36-38.
- Дело (2012) — «Дело это очень неприятное...» Следственные показания епископа Бориса (Рукина). 1925 г. / Публ. А. В. Мазырина // Исторический архив. 2012. № 5. С. 91-111.
- Иванов (2017) — Иванов С.Н. Святой Патриарх Тихон и изъятие священных предметов из храмов в 1922 г. // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2017. Вып. 75. С. 60-93.
- Колесник, Кривошеева (2010) — Колесник А.Е., Кривошеева Н.А. Рецензия на книгу: Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917-1925 гг.). М.: НП ИД «Русская Панорама», 2008 // Вестник СПТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2010. Вып. 1 (34). С. 140-142.
- Лобанов (2008а) — Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917-1925 гг.). М.: Русская Панорама, 2008.
- Лобанов (2009б) — Лобанов В.В. Кончина Патриарха Тихона: факты и мнения // Церковь в истории России. Сб. 8. М., 2009. С. 199-212.
- Лобанов (2004в) — Лобанов В.В. «Следствие вести без ограничения срока.». Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б) и ее роль в деле Патриарха Тихона // Альфа и Омега. 2004. № 1(39) С. 170-185.
- Петров (2013а) — Петров С.Г. Русская православная церковь времени патриарха Тихона (источниковедческое исследование). Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2013.
- Петров (2002б) — Петров С.Г. Освобождение Патриарха Тихона из-под ареста: источниковедческое изучение «покаянных» документов // История Русской Православной Церкви в ХХ веке (1917-1933). Мюнхен, 2002. С. 213-237.
- Полетаева (2007) — Полетаева Т.А. Святейший Патриарх Тихон // Миссионерское обозрение. 2007. №4 (138). С. 25-30.
- Сафонов (2005а) — Сафонов Д.В. В последние годы жизни патриарха Тихона против него готовился новый судебный процесс // Церковь в истории России: Сб. статей. Сб. 6. М., 2005. С. 218-243.
- Сафонов (2004б) — Сафонов Д.В. Статьи о Патриархе Тихоне // Альфа и Омега. 2004. № 1 (39). С. 185-203.
- Сафонов (2010в) — Сафонов Д.В. Единоначалие и коллегиальность: из истории Высшего Церковного Управления Русской Церкви от свт. Тихона, патриарха Всероссийского, до Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Часть 2: год 1925 // Богословский вестник: Сборник научных трудов Московской Духовной Академии. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. № 10. С. 319-320.
- Серафим Николин (2017а) — Серафим (Николин), игум. Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский и его отношение к государственной власти 1917-1918 гг. // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии. 2017. № 1. С. 46-59.
- Серафим Николин (2017б) — Серафим (Николин), игум. Патриарх Тихон и государственная власть: в поисках компромисса // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии. 2017. № 2 (3). С. 21-29.
- Серафим Николин (2018) — Серафим (Николин), игум. Государственная власть и Патриарх Тихон в 1923-1925 гг. // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии. 2018. № 1 (4). С. 83-97.
- Сборник (2000) — Следственное дело Патриарха Тихона. Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ РФ. М.: ПСТБИ, Памятники исторической мысли, 2000.