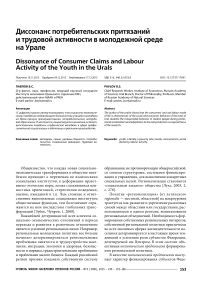Диссонанс потребительских притязаний и трудовой активности в молодежной среде на Урале
Автор: Павлов Б.С.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Уровень и качество жизни
Статья в выпуске: 4 (198), 2015 года.
Бесплатный доступ
«С цифрами в руках», автор показывают, что социально-экономическому поведению подавляющего большинства учащейся молодёжи на Урале присущ, по преимуществу, потребительский, нетрудовой образ жизни. В частности акцентируется внимание на безответственном поведении студенческой молодёжи в сфере профессиональной социализации и адаптации в реальном производстве.
Молодёжь, семья, уровень бедности, потребительство, социальные девиации, трудовая активность
Короткий адрес: https://sciup.org/143182109
IDR: 143182109
Текст научной статьи Диссонанс потребительских притязаний и трудовой активности в молодежной среде на Урале
Общеизвестно, что каждая новая социальноэкономическая трансформация в обществе неизбежно приводит к переменам во взаимосвязи социальных институтов, к деформации нравственно-этических норм, ломке сложившихся ценностных ориентаций, стереотипов поведения, оценок, ожиданий и т.п. Чем сложнее и ответственнее выполняемые социальным институтом общественные функции, тем болезненнее отражаются на нем последствия глобальных трансформаций [Зубок, Чупров, 1, 2008].
Важнейшей детерминантой всех аспектов социально-экономических отношений в период перехода и развития к рыночным отношениям является усиление региональных начал. Например, региональная молодежная политика все больше начинает детерминироваться региональными проблемами занятости и трудоустройства населения, миграции, экологии и здоровья, безопасности и порядка, градостроительными проблемами и проблемами малого бизнеса. Каждый российский регион призван создавать собственную систему образования, не противоречащую общероссийской, со своими структурами, системами финансирования и управления, для выполнения конкретных социальных целей. Регионализация становится «социальным заказом» общества [Лукс, 2003, 2, с. 278].
Понятие «регионализация» [ от латинского regionalis — местный, областной ] на макроуровне трактуется как развитие и укрепление различных связей между областями или государствами, расположенными в одном регионе, возникновение региональных объединений. Необходимость формирования собственных региональных интересов, собственной региональной политики практически во всех значимых сферах жизнедеятельности населения детерминируется в настоящее время тенденцией к усилению роли субъектов Федерации, делегируемой им Центром. В этом состоит объективная политическая предпосылка формирования региональной политики.
В качестве экономической предпосылки выступает характер финансирования субъектов Феде- рации федеральным центром (его недостаточность и нерегулярность), что вынуждает регионы в первую очередь рассчитывать на собственные ресурсы. Помимо этого, опыт последних лет показал, что надежды исключительно на внешних инвесторов инновационной деятельности в большинстве российских регионов весьма призрачны.
Существует также информационная предпосылка . Выяснилось, что развитию инновационной деятельности в регионе препятствуют низкий уровень знаний хозяйствующих субъектов в области трансфера технологий, отсутствие квалифицированных специалистов для проведения этой работы. Наконец, неразвитость или отсутствие соответствующей инфраструктуры в регионе, выражающей его интересы в инновационной деятельности, отсутствие регионального законодательства в этой сфере также являются сдерживающими факторами региональной политики — квалифицируем ее как организационно-правовую предпосылку.
Остановимся на некоторых аспектах трансформации общественного сознания и поведения уральской молодежи за последние 10–15 лет. По данным мониторинговых опросов Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ, за период 1992–2014 гг. «дороговизна жизни» для россиян в числе других факторов, провоцирующих тревожность респондентов, снизилась с 70% (ноябрь 1993 г.) до 38% (июнь 2014 г.), а «повышение цен на продукты питания» соответственно с 40% (июнь 2008 г.) до 27% (июнь 2014 г.). В то же время практически «остались без изменения» такие факторы, как «повышение тарифов на услуги ЖКХ» (с 44% в октябре 2003 г. до 38% в июне 2014 г.) и «разделение общества на богатых и бедных» — 22% в ноябре 1993 г. и июне 2014 г. [Левашов и др., 2014, 3].
«Семья по своей сущности всегда была, есть и будет позитивистическим мирским институтом благоустройства, — писал Н.А. Бердяев, — биологическим и социологическим упорядочиванием жизни рода. Формы семьи, столь текучие на протяжении человеческой истории, всегда были формами социального приспособления к условиям существования, к условиям хозяйствования в мире. Нет феномена в жизни человечества, который бы так удачно объяснялся экономическим материализмом, как семья. В этой области социологический материализм одержал наибольшие победы. Семья — хозяйственная ячейка, прежде всего, и ее связь с полом всегда косвенная, а не прямая» [Бердяев, 1918, 4, 1918].
За последние 20–25 лет в мониторинговом режиме в целом ряде исследований различным группам респондентов (в том числе учащимся школ и студентам) в разных регионах РФ в анкетах задавался вопрос: «К какой категории населения по уровню жизни Вы относите себя, свою семью в настоящее время?». Респондентам предлагается оценить уровень своей жизни по четырехзвенной шкале: а) «пока живем в полном достатке» — (сокращенное обозначение варианта — «А»); б) «имеем средний достаток» — «Б»; в) «живем на грани бедности» — «В»; г) «живем за чертой бедности» — «Г». О сравнительном постоянстве социальноэкономического самочувствия уральского населения в процессе идущих экономических реформ свидетельствуют приводимые ниже данные табл. 1.
Обращает на себя внимание определенная «пестрота» социально-экономического самочувствия взрослого населения различных регионов РФ, различных социальных группах на протяжении четверти столетия. Существенно различается доля «середняков» и «бедняков». Несколько выделяются из общего ряда, с одной стороны, семьи северян, живущие на территориях «нефтяных» и «газовых» городов ХМАО и ЯНАО, с другой — так называемые «семьи риска», наиболее социально не защищенные группы семей, монородительские семьи («матери-одиночки») и семьи с детьми-инвалидами [Возьмитель, 2012, 5].
В необеспеченных семьях (умеренная степень бедности), как правило, удовлетворяются элементарные потребности (как физиологические, так и социальные), но остаются неудовлетворенными потребности более сложного и высокого порядка. «Необеспеченные» более или менее сытно едят (хотя рацион не всегда сбалансирован и питание нельзя считать полностью здоровым), имеют возможности обновлять одежду, лечиться, отдыхать. Вместе с тем этот уровень жизни не позволяет достичь образцов и стандартов жизни, считающихся в рамках данной культуры нормальными и достойными.
В принципе, социальное неравенство имеет как позитивные, так и негативные последствия для функционирования и развития общества. Исследователи феномена неравенства отмечают, что оно является условием поступательного развития общества, поскольку заставляет людей совершенствоваться, развиваться, бороться. Н.А. Бердяев, например, писал, что неравенство есть могущественное орудие развития производительных сил. Уравнение в бедности, нищете сделало бы невозможным развитие производительных сил. При этом неравенство, по мнению русского философа, есть условие всякого творческого процесса, социальной инициативы, подбора элементов, «более годных для производства» [Бердяев, 1918, 4].
Таблица 1
Самооценка уровня жизни уральских «взрослых» семей (% от общего числа опрошенных по каждому исследованию)
|
Год, число респондентов |
География опроса — социальные группы1 |
Варианты самооценок |
|||
|
А |
Б |
В |
Г |
||
|
1989 г., 1500 чел. |
Нижневартовск — взрослые горожане |
8 |
45 |
28 |
19 |
|
1992 г., 2000 чел. |
Челябинская обл.— жители ВУТРЗ |
3 |
42 |
48 |
7 |
|
1994 г., 520 чел. |
Надым — взрослые горожане |
6 |
66 |
25 |
3 |
|
1996 г., 1000 чел. |
Свердловская обл. — «электорат» |
3 |
47 |
42 |
8 |
|
1998 г., 350 чел. |
Челябинская обл., «монородительские семьи» |
1 |
25 |
60 |
14 |
|
1998 г., 455 чел. |
Челябинская обл. — семьи с детьми—инвалидами |
2 |
33 |
59 |
6 |
|
1999 г., 1360 чел. |
РФ — шесть регионов |
3 |
56 |
37 |
3 |
|
2000 г., 2000 чел. |
Нижний Тагил |
4 |
48 |
41 |
6 |
|
2001 г., 630 чел. |
Краснотурьинск — взрослые горожане |
2 |
63 |
31 |
4 |
|
2004 г., 1000 чел. |
Читинская обл. — «электорат» |
3 |
52 |
39 |
6 |
|
1998 г., 1000 чел. |
Свердловская обл. — «электорат» |
1,0 |
41 |
49 |
8 |
|
2004 г., 1100 чел. |
11 городов ХМАО |
8 |
73 |
17 |
2 |
|
2006 г., 4000 чел. |
Екатеринбург 30 микрорайонов города |
13 |
61 |
21 |
4 |
|
2007 г., 650 чел. |
Екатеринбург — пенсионеры2 |
1 чел. |
29 |
68 |
3 |
|
2013 г., 550 чел. |
Научные сотрудники УрО РАН — «Урал—2013» |
4 |
80 |
15 |
2 чел. |
1 Опросы, помеченные аббревиатурой, упомянуты в тексте статьи.
2 Респонденты — клиенты еврейского Благотворительного фонда «Центра «Хэсэд-Менора»; в возрасте 60 лет и старше — 93%.
Вместе с тем существуют виды социального неравенства, которые ставят большинство населения на грань бедности, общей или хронической нищеты, политической и социальной бесперспективности. Это неравенство не только результат различных видов «запаздывающей» модернизации, ошибок и методов трансформации, но и мирового разделения богатства и прибыли в рамках капитала всей планеты.
В условиях стабильной социально-экономической ситуации феномен «бедности слабых» затрагивает, как правило, относительное меньшинство населения, и при этом ту его часть, которая не играет, как правило, решающей роли в общественной жизни. В условиях России этот феномен бедности распространяется почти на половину населения — в нашей классификации это группы «В» и «Г». При этом она может стать серьезной социальной и политической проблемой при достижении уровня острой нищеты и массовых масштабов. В такой ситуации она превращается в реальную социальную и нравственную угрозу для общества, даже если оказывается уделом сравнительно небольших и неактивных категорий населения [Яницкий, 2013, 6].
Зададимся вопросом: насколько сопрягаются в потребительской деятельности россиян их расширяющиеся потребности, с одной стороны, и возможности удовлетворения последних — с дру- гой? Попытаемся сравнить оценки жизненного уровня уральских семей с так называемых поколенческих позиций «отцов и детей». Другими словами, «Кто живет богаче: ОТЦЫ или ДЕТИ?».
В наших исследованиях они фиксировались, с одной стороны, в самооценках, данных родителями, и с другой — в оценках этого показателя, представленных их взрослеющими детьми. Обратимся вновь к серии наших мониторинговых опросов. Ниже представлены оценки уровня жизни уральских «взрослых» семей с позиций подростков и молодых людей — учащихся старших классов школ и студентов вузов (табл. 2).
Сравнивая данные таблиц 1 и 2, нетрудно видеть, что молодые люди, учащиеся в школах и вузах, « живут в значительно более богатых семьях», чем их родители. Повышенный материально-экономический «оптимизм молодежи», своеобразный диссонанс в оценке уровня жизни своих родителей (естественно, и самого себя) мы связываем с несколькими обстоятельствами. Прежде всего, взрослеющие дети в полном объеме не включаются родителями в решение острых материальнофинансовых проблем, с которыми ежедневно (постоянно) сталкиваются взрослые члены семьи. В силу этого налицо фактор «потребительской некомпетентности» младших членов семьи в сфере экономической деятельности родителей [Чернышев, Сарычев, 2008].
Таблица 2
Самооценка учащимися уровня жизни родительских семей (% от общего числа опрошенных по каждому исследованию)
|
Год, число респондентов |
География опроса |
Варианты самооценок |
|||
|
А |
Б |
В |
Г |
||
|
Учащиеся старших классов школ |
|||||
|
1998 г., 770 чел. |
Надым (ЯНАО) |
34 |
59 |
5 |
2 |
|
2005 г., 655 чел. |
Краснотурьинск |
39 |
57 |
3 |
1 чел. |
|
2007 г., 900 чел. — учащиеся-горожане |
Пермская, Свердловская и Челябинская обл. — «Урал-2007» |
46 |
52 |
2 |
2 чел. |
|
2007 г., 540 чел. — учащиеся-селяне |
Там же |
53 |
45 |
2 |
2 чел. |
|
Студенты, курсанты |
|||||
|
2005 г., 500 чел. курсанты |
Уральский институт ГПС МЧС России |
35 |
62 |
2 |
1 чел. |
|
2008 г., 680 чел. |
УГТУ-УПИ — «Урал-2008» |
25 |
70 |
5 |
1 чел. |
|
2014 г. — УрФУ — 500 студенток |
Екатеринбург — «Урал-2014» |
27 |
69 |
4 |
— |
Есть и второй момент. Подростку не всегда приятно «признаваться» окружающим, что он живет в «бедной» семье. Престижнее в глазах товарищей вариант «проживания в обеспеченной семье», в семье «преуспевающих родителей».
И, наконец, третий аспект проблемы «бедности и богатства» следует отнести к разряду наиболее объективных. Он объясняется нарастающим родительским альтруизмом в пользу детей. Нетрудно заметить, что средние и старшие поколения уральцев (в нашем случае, родители взрослеющих детей) более «скромно» (и, по нашему мнению, более адекватно) оценивают уровень благосостояния своих семей, чем их сыновья и дочери (учащиеся школ, студенты). Традиционно молодежь относят к слабозащищенной части общества. Социалистический лозунг «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!» при всем его фактическом социальном лицемерии призывал к смягчению социального неравенства между двумя основными потребительскими группами населения: работающими и неработающими . В состав второй группы, помимо « еще не работающих» детей, школьников и студентов, входила и группа «уже не работающих» пенсионеров.
Молодежь традиционно считается наиболее мобильной социальной группой. Ее энергия и «гибкость» особенно востребованы в современном динамично развивающемся обществе. Возрастает роль молодежи в качестве потенциального источника преобразований всех сфер жизни. Молодые люди не только усваивают ценности предыдущих поколений, но и генерируют новые. Молодежная интерпретация культурного наследия и окружающей действительности во многом определяет направления общественного развития. Умные, дальновидные реформаторы не могут не видеть в молодежи обновляющую силу, оживляющий инновационный элемент, интеллектуальный, духовный и энергетический резерв, который выступает на первый план и вводится в действие, когда в обществе надо произвести глубокую и быструю перемену и в то же время хорошо приспособиться к меняющимся и качественно новым обстоятельствам. В этом и состоит основная социальная функция молодежи в обществе [Ильинский, 2001, 8].
Вместе с тем острота проблем социально-экономического развития России (естественно, и Уральского региона) зависит не только от количественног о дефицита человеческих ресурсов, т.е. от их демографического недопроизводства. На повестке дня другая, не менее важная, составляющая трудового потенциала — дефицит их качества. В каждый данный момент трудовой потенциал сохраняет качественно-количественную конкретность, т.е. имеет определенную меру: человек, вступающий в общественное производство, располагает каким-то фондом трудового потенциала, устанавливает оптимальные пропорции его необходимого и рационального использования. «Мера необходимого развития трудового потенциала, — отмечает Н.И. Шаталова, — обусловливает сроки и систему подготовки специалиста, позволяет судить об этапах и фазах функционирования и развития, дает возможность измерять его с помощью традиционных социологических методов и т.п.» [ Шаталова, 9, 1999, с. 12 ] .
Далее, рассуждая о воспроизводстве трудового потенциала в регионе, мы остановится на некоторых деформациях в системе экономического и трудового воспитания и поведения молодежи, которые наглядно проявляются в среде молодых уральцев в процессе социально-профессиональной социализации. Помимо указанных выше, будут использованы материалы ряда комплексных региональных исследований по проблемам различ- ных по возрасту категорий уральской молодежи (подростков, студентов, молодых семей), проведенных в 2003–2014 гг. в Институте экономики УрО РАН. В частности, это следующие проекты: ◼ 2003 г. — опрос 2900 молодых супругов в пяти регионах РФ, в том числе 1850 респондентов из семей Свердловской области — «Урал-2003»;
◼ 2007 г. — по представительной выборке в шести городах Свердловской и Челябинской областей по специальным анкетам опрошены 665 учащихся, 490 их родителей и 230 экспертов — специалистов учреждений, связанных с организацией социализационного процесса в молодежной среде. В числе опрошенных подростков 327 так называемых «благополучных», по оценкам учителей («Б») и 338 — «трудных» — «Урал-2007»;
◼ 2009 г. — в 7 городах и 14 сельских поселениях Пермской, Свердловской и Челябинской областей по авторским анкетам опрошено пять категорий респондентов: а) учащиеся средних и старших классов городских школ — 900 чел.; б) учащиеся средних и старших классов сельских школ — 540 чел.; в) родители учащихся городских школ — 770 чел.; г) молодые рабочие (в возрасте до 25 лет) с 32 городских предприятий Свердловской и Челябинской областей — 570 чел. — «Урал-2009»;
◼ 2010 г. — опрос 680 студентов старших курсов Уральского федерального университета (УрФУ) на технических и гуманитарных факультетах. Предмет исследования — уровень и характер причастности молодых людей к религиозной культуре и влияние последней на социализацию молодых специалистов — «Урал-2010»;
◼ 2012 г. — анкетный опрос по квотно-репрезентативной выборке 1000 студентов IV–V курсов 7 уральских вузов. Один из основных аспектов исследования — отношение будущих молодых специалистов к своей учебе, профессии, поведению в Вузе и вне его (города Екатеринбург, Нижневартовск, Челябинск) — «Ст»; б) опрос 250 преподавателей в тех же вузах по проблемам профессиональной подготовки и нравственно-этическому поведению студентов — «Пр»; в) с теми же лейтмотивами — опрос 600 молодых специалистов на предприятиях указанных городов — «Сп» и г) 150 руководителей предприятий, производств - «Рук» — «Урал-2012»;
◼ 2013 г. — был проведен социологический опрос 510 учащихся средних и старших классов 15 общеобразовательных школ Кировского района г. Екатеринбурга и 300 учащихся 9 школ ЗАТО «Лесной» Свердловской области, связанный с анализом процессов социализации и подготовки молодых горожан к будущей взрослой жизни (юноши — 46%, девушки — 54%) — «Урал-2013»;
■ 2014 г. — по представительной выборке в Екатеринбурге и Челябинске были опрошены 150 экспертов по проблемам неблагополучного детства и девиантности поведения детей, подростков и молодых людей; в числе респондентов — опытные преподаватели Свердловского и Челябинского государственных педагогических университетов — 50 чел. («П»); опытные социальные педагоги ряда школ Екатеринбурга и Челябинска — 50 чел. («О»); специалисты в сфере обществоведения ряда институтов УрО РАН (г. Екатеринбург) — 50 чел. («Н»). Проект носил социально-прогностический характер — «Урал-2014-А».
«Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, — писал К.Д. Ушинский, - должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни... Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни… Воспитание не только должно развить разум человека и дать ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой» [ Ушинский, 1968, 10, с. 155 ] .
Попытаемся ответить на вопрос: в какой мере сегодня родительские семьи «зажигают в детях жажду серьезного труда»? Начнем с детского труда по самообслуживанию. Было бы неверным оценивать степень приобщенности детей к домашнему труду лишь с позиции их утилитарной готовности к самообслуживанию в сфере потребительской деятельности семейной группы. Трудовые навыки в том или ином виде домашнего труда, постоянная приобщенность к нему — это одновременно и свидетельство общей трудовой социализации ребенка (молодого человека), выработки у него не только таких общетрудовых качеств, как трудолюбие, целеустремленность, выносливость, ловкость, но и таких личностных качеств, как умение сочетать личные, групповые и общественные интересы, формирование уважительного отношения к материальным ценностям, к труду, чувства ответственности за свое поведение, развитие чувства доброты, сочувствия и соучастия и т.д. [ Андреева, 2001, 11 ] .
Взрослая жизнь — это не только возрастной период, но и участие в труде и выполнение семейных обязанностей. Однако без надлежащей подготовки к взрослой жизни, в том числе семейной, или в том случае, если сформировавшиеся позиции или модели поведения молодежи не могут быть адаптированы к изменяющимся социальным условиям, период юности может стать временем утраченных возможностей и повышенного, с медицинской точки зрения, риска. На вопрос нашим респондентам — учащимся сельской местности («Урал-2009») «Умеете ли Вы выполнять (более или менее «сносно») следующие работы?» были получены следующие признания: 47% современных 16- 17-летних сельских девушек (заметим, в недалеком будущем — жен, матерей) умеют «варить борщи, супы», 40% — «стряпать пироги», 17% — заготавливать варенья, соленья… Хорошо это или плохо? Да, скорее всего, хорошо для семей их родителей и для будущих их собственных семей. Но посмотрим на эти цифры с другой стороны. По самооценкам наших молодых респондентов-селянок, к 10–11-му классу 53% общего числа опрошенных «не научились» варить борщ, 60% — стряпать пироги и 83% — не умеют заготавливать варенья, соленья. Заметим, что речь шла не о городских девушках, максимально «приближенных» к услугам общепита, а о селянах, «приближенных к земле», к натуральному хозяйствованию.
«Интеллектуализм» современного подростка (как городского, так и сельского), большой объем усвоенных им знаний нередко достигается ценой полного освобождения его от трудовых обязанностей в семье и в процессе школьной учебы. А между тем проблема трудового воспитания органически связана с формированием социальной зрелости подростка, далеко не синхронной с ускорением физического развития и насыщением информацией. И здесь на первое место выступает трудовое воспитание, способствующее формированию уважительного отношения к материальным ценностям, к труду, воспитанию чувства долга и ответственности перед собой и окружающими.
Как показал опрос «Урал-2013», «не перерабатывают» особо в домашнем хозяйстве и городские подростки на Урале. На вопрос анкеты «Какую работу по дому и саду ты выполняешь регулярно (более или менее постоянно)?» ответы учащихся школ двух уральских городов распределились следующим образом (% от общего числа опрошенных в по каждому городу; в числителе — ответы респондентов из г. Екатеринбурга — 510 чел., в знаменателе — из ЗАТО «Лесной» — 300 чел.):
-
а) выполнение работ в квартире:
◼ убираю пыль пылесосом — 67/64;
◼ мою, чищу посуду — 65/66;
◼ регулярно хожу в магазин за продуктами — 49/51;
◼ делаю влажную уборку, мою полы — 46/46;
◼ готовлю еду (суп, второе блюдо) — 32/32;
◼ глажу белье — 27/28;
-
б) выполнение работ в саду, в огороде:
◼ поливаю овощи, цветы, ягоды — 51/39;
◼ собираю «трудоемкие» ягоды (облепиху, смородину и др.) — 37/33;
◼ пропалываю грядки — 33/26;
◼ копаю землю, грядки — 27/23;
◼ топлю печь (в доме, в бане) — 21/17;
◼ отвечаю за приготовление еды — 13/13;
-
в) работы, которые выполняют или дома, или в саду:
◼ ухаживаю за домашней «живностью» (собакой, кошкой и др.) — 59/55;
◼ помогаю в ремонтных работах по дому, саду — 35/36;
◼ ухаживаю за младшими братьями, сестрами — 32/33;
◼ ухаживаю за пожилыми родственниками (бабушкой) — 22/19;
◼ высаживаю (ухаживаю) за рассадой, цветами — 17/15;
◼ ухаживаю за автомобилем, мотоциклом — 12/10.
Своеобразный «сельский синдром» имеет свой антипод — «городской синдром», с менее ощутимым для человека, но социально столь же, и даже более, негативными чертами-симптомами. Прежде всего, речь идет о соблазнах тунеядства, провоцируемого реальными возможностями прожить в городе (прежде всего, в крупном), месяцами и годами (в принципе даже всю жизнь), не занимаясь никаким трудом. Это ведет к прямому моральному разложению если не родителей, то наверняка их детей. Свой «вклад» в отчуждение горожанина от трудовой активности вносит возможность бытового потребительства, т.е. полной ориентации во всех житейских мелочах только на сферу обслуживания. В результате появляются целые поколения инфантилов, не способных к элементарному самообслуживанию, с соответствующими сдвигами в психике [Шестопалова, 2009, 12].
Не вдаваясь в полемику современников, хотелось бы напомнить известные положения К. Маркса, написанные в (1866 г.): «При разумном общественном строе каждый ребенок с 9-летнего возраста должен стать производительным работником так же, как и каждый взрослый трудоспособный человек должен подчиняться общему закону природы, а именно: чтобы есть, он должен работать, и работать не только головой, но и руками... Мы считаем необходимым, основываясь на физиологии, разбить детей и подростков обоего пола на три группы, требующие различного отношения к себе: в первую группу должны входить дети от 9 до 12 лет, во вторую — от 13 до 15 лет, в третью — 16–17-летние. Мы предлагаем, чтобы для первой группы закон ограничил труд в какой бы то ни было мастерской или на дому двумя часами; для второй — четырьмя и для третьей — шестью часами. Для третьей группы должен быть перерыв по крайней мере в один час для еды или для отдыха» [Маркс, 13, т. 16, с. 197].
Согласны ли с классиком современные уральские родители? Полученные данные о желаемом возрасте приобщения детей к посильному производительному труду, высказанном уральскими родителями и экспертами («Урал-2007»), свидетельствуют о следующем: каждый шестой-седьмой из двух групп респондентов (15–16%) считает, что приобщать к серьезному труду детей можно с 6–7-го класса, каждый третий родитель (33%) — с 8-9-го класса. Каждый четвертый родитель (24%) и столько же экспертов (25%) считают наиболее благоприятными для включения подростков в производительный труд — 9–11-й класс. В первую очередь за такой «щадящий» возрастной режим трудового воспитания родители из семей, живущих «в полном достатке». Однако развитию системы детского трудового воспитания противостоит, как показало исследование, довольно солидная группа противников. Вариант анкеты «В школе дети (подростки) должны хорошо учиться, а работать и зарабатывать деньги они «успеют» после окончания учебы» отметили 28% опрошенных родителей и 19% — экспертов.
По нашему твердому убеждению, дальнейшему развитию нетрудового образа жизни значительной части российской молодежи будет способствовать принятый в конце декабря 2012 г. и ныне действующий федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [14]. Одно тому подтверждение: в «Законе…» более чем на 150 страницах в 111 содержательных… статьях мы не встретим ни одного словосочетания «трудовое воспитание». «Не нашлось места», или это своеобразная «запланированная кем-то кардинальная инновация» в сфере российской молодежной политики, другими словами, в сфере стратегического развития российского социума?
«Как мы понимаем наше общество, — спрашивает немецкий социолог Н. Луман, — если превращаем понятие риска, бывшего когда-то актуальным лишь для некоторых групп, подвергавших себя особой опасности, в универсальную проблему, неизбежную и неподдающуюся решению? Что теперь становится необходимым?.. Как общество при нормальном ходе выполнения своих операций справляется с будущим, в котором не вырисовывается ничего определенного, а только более или менее вероятное или невероятное?» [Luhmann, 1993, 15, р. IХ]. Характерной чертой постсовременного общества, по Луману, является не столько потребность создания условий стабильного существования, сколько интерес к крайним, даже невероятным альтернативам, которые разрушают условия для общественного консенсуса и подрывают основы коммуникации.
Обратимся к результатам нашего опроса «Урал-2013». «Чего ты боишься больше всего в своей жизни?» — на этот вопрос мы попросили ответить 510 уральских тинейджеров. Вот какие были получены ответы (% от общего числа опрошенных):
-
I. Потеря родителей, близких:
◼ боязнь потерять родителей — 86;
◼ боязнь болезни, травмы родителей — 67;
◼ боязнь потерять друзей — 43.
-
II. Насилие, бедствие, потеря свободы:
◼ боязнь подвергнуться физическому насилию; ◼ быть изувеченным, избитым — 46;
◼ боязнь попасть в тюрьму, колонию — 39;
◼ боязнь быть незаслуженно обвиненным в преступлении — 38;
◼ боязнь оказаться заложником в результате теракта — 33;
◼ боязнь быть ограбленным, обворованным в доме, квартире, саду — 30;
◼ боязнь пострадать от пожара — 9.
-
III. Собственное здоровье:
◼ боязнь привыкнуть к наркотикам — 31;
◼ боязнь привыкнуть к курению — 27;
◼ боязнь болезни, травмы своей — 23;
◼ боязнь привыкнуть к алкоголю — 23;
◼ боязнь отравиться продуктами питания — 19;
◼ боязнь быть покусанным собакой — 18;
◼ боязнь отравиться воздухом — 7;
◼ боязнь отравиться водой — 6.
-
IV. «Превратности судьбы»:
◼ боязнь не поступить в вуз, колледж после школы — 25;
◼ боязнь быть наказанным богом за грехи — 24; ◼ боязнь потерять жилье, стать бомжом — 18; ◼ боязнь привыкнуть к азартным играм — 15.
Нетрудно видеть, что наибольшие страхи и тревоги у современных молодых уральцев вызывают возможные ситуации с потерей родителей, близких, угрозы физического насилия и оказаться изгоем социального окружения, в частности быть втянутым в асоциальные формы поведения. При всей привлекательности подобной социальной ориентированности молодых людей в настоящее время она, к сожалению, во многом является иллюзорно-лицемерной. Особенно это касается отношения молодых людей к своему здоровью. Попытаемся доказать это «с цифрами в руках».
Объективно здоровье — одна из главных ценностей жизни, такая оценка закрепилась и в традиционном речевом этикете: «Здравствуйте!»,
«Будьте здоровы!», даже «Будем здоровы!» Однако, если посмотреть по сторонам, бросается в глаза, как мало мы бережем здоровье, как легкомысленно пренебрегаем нормами здоровой жизни. Так называемые вредные привычки, беспорядочное питание, пренебрежение режимом труда и отдыха, неоправданные риски — нужно ли продолжать? В первую очередь подобная позиция характерна для молодых, которые, пренебрегая советами старших и умудренных опытом, «не берегут здоровье смолоду».
Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в различных областях нашей жизни. Гиппократ писал: «Как суконщики чистят сукна, выбивая их от пыли, так гимнастика очищает организм». Занятия гигиенической гимнастикой не исключают ее превращения в тренировочную. Тогда к ней добавляют специальные упражнения на гибкость, силу, прыгучесть, равновесие, ловкость, выносливость. Это бег, прыжки в длину и высоту и пр. Нашим юным респондентам в двух уральских городах («Урал-2013») задавался вопрос: «Что в настоящее время ты делаешь регулярно для своего здоровья и физического развития? Количество ответов не ограничивается». Полученные ответы помещены в табл. 3.
Таблица 3 Виды и формы участия молодых уральцев в спортивно-оздоровительной деятельности
(% общего числа опрошенных по каждой из четырех групп подростков; в графе «5–6 кл.» — в числителе — учащиеся г. Екатеринбурга, в знаменателе — г. Лесной;
в графе «10–11 кл.» — аналогично)
|
Виды спортивнооздоровительной деятельности |
Группы по классам |
|
|
5-6 кл. |
10-11 кл. |
|
|
Сам, индивидуально занимаюсь: |
||
|
— в спортивной секции |
21 / 54 |
19 / 34 |
|
— делаю физзарядку |
13 / 24 |
20 / 31 |
|
— катаюсь на лыжах |
17 / 56 |
18 / 37 |
|
— катаюсь на коньках |
27 / 60 |
26 / 43 |
|
— катаюсь на мотоцикле, велосипеде |
22 / 46 |
20 / 25 |
|
— бегом |
14 / 33 |
12 / 27 |
|
— плаванием |
9 / 24 |
9 / 11 |
|
— гирями, гантелями |
6 / 12 |
12 / 21 |
|
— катаюсь на сноуборде |
6 / 12 |
8 / 5 |
|
— хожу в тренажерный зал |
6 / 11 |
16 / 27 |
|
— играю в шахматы |
9 / 9 |
6 / 12 |
|
Участвую в школьных соревнованиях |
10 / 35 |
13 / 26 |
|
Хожу в турпоходы |
7 / 29 |
8 / 20 |
|
В настоящее время спортом не занимаюсь, к сожалению, нет времени и условий |
5 / 2 |
11 / 5 |
Приведенные в таблице цифры дают богатую пищу компетентному и заинтересованному читателю для размышлений и соответствующих выводов. В первую очередь, они позволяют оценить (хотя бы приблизительно) количественные и качественные индикаторы развития спортивных занятий в различных социально-демографических группах детей и подростков, соотношение традиционных, спонтанных (в семье, во дворе, в компании сверстников) и общественно-организованных (школа, городские учреждения культуры и спорта) форм занятий населения физической культурой и спортом.
А каково отношение уральских родителей и их детей к перспективе посвятить свою профессиональную жизнь (жизнь детей) занятиям в «большом спорте»? На вопрос «Если бы тебе предоставилась возможность выбрать спорт в качестве своей будущей профессии (стать профессиональным спортсменом), то какое решение ты бы принял (а)?» («Урал-2009») ответы подростков в уральских городах и селах рабочих распределились следующим образом (% общего числа опрошенных по каждой группе: в числителе — город, в знаменателе — село):
◼ несомненно, выбрал бы профессию спортсмена — 15/27;
◼ скорее всего, выбрал бы спортивную карьеру — 16/14;
◼ смотря по обстоятельствам — 36/31;
◼ скорее всего, отказался бы от профессии спортсмена — 33/28.
Нетрудно видеть, что примерно каждый седьмой городской (15%) и каждый четвертый сельский подросток (27%) на момент опроса были ориентированы (при соответствующих обстоятельствах) на освоение той или иной спортивной профессии. Однако вряд ли подавляющее большинство школьников представляют, с какими физическими и нравственными нагрузками сопряжен путь потенциальных претендентов на громкие титулы мастеров, заслуженных мастеров спорта, чемпионов Олимпийских игр… Известно, например, что стремление воспитать «надежный олимпийский резерв» объективно обусловливает необходимость организации массовой селекционной работы по выявлению, формированию и воспитанию у детей (подростков, молодых людей) соответствующих физических, духовных и нравственных «качеств победителей». По данным региональной статистики на 1 января 2011 г., в Свердловской области функционировали 143 детско-юношеские спортивные школы (в том числе специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва), в которых занимались более 95 тыс.
детей — около 20–25% всех старшеклассников региона.
Начиная с 9–10 летнего возраста (начала обучения в таких школах) детей целенаправленно приучают (адаптируют) к физическим упражнениям (физическому труду над своим телом) с нарастающей (по мере онтогенетического развития организма ребенка) динамикой физического напряжения и формирования соответствующих волевых качеств. Опять же в качестве примера приведем режим тренировки детей школьного возраста по гимнастике. В конце первого года обучения могут проводиться трехразовые 45-минутные тренировки в неделю. С 10-летнего возраста в учебно-тренировочной группе двухразовые занятия проводятся продолжительностью 60–90 минут. При условии высокой общей физической подготовленности юных гимнастов занятия проводятся три раза в неделю по 60–90 минут каждое. С 13-летнего возраста длительность занятий увеличивается до 120 минут, в 15-летнем возрасте — 180 минут, а с 17 лет и старше нередко планируются занятия 4–6 раз в неделю. Допускается планирование двух занятий в день (утром и после 18 часов). В каждом конкретном случае продолжительность одной тренировки, количество и их частота определяются педагогом. Суммарный объем занятий может доходить до 24 часов в неделю [Попов, 2000, 16].
Как используют свое свободное время подавляющее большинство уральских школьников, которых «не готовят в чемпионы»? В исследовании «Урал-2013» нашим респондентам задавался вопрос: «Представьте, что у Вас лично ежедневно появились 1–2 часа незанятого времени. Попытайтесь потратить это свое свободное время. Выберите не более 4–5 форм проведения освободившегося свободного времени». Вот как бы «потратили» свое личное «богатство» (К. Маркс) уральские тинейджеры в начале ХХ1 в. (% от общего числа опрошенных по каждой группе; в числителе — ответы юношей, в знаменателе — девушек):
-
а) досуг, развлечения дома (в квартире):
◼ заниматься на компьютере, Интернетом — 39/22;
◼ просмотр «видиков», слушать музыку — 32/30; ◼ больше читать книг, журналов — 23/28;
◼ на просмотр интересных телепередач — 20/19; ◼ заниматься музыкой, играть на инструменте — 10/11;
◼ шить, вязать, заниматься своим хобби — 8/24;
-
б) досуг, развлечения вне дома («на улице», вне города):
◼ стал бы больше гулять на свежем воздухе — 58/63;
◼ больше времени проводить со своими друзьями — 51/52;
◼ заниматься спортом, ходить в спортзалы — 43/31;
◼ чаще посещать кафе, дискотеки — 14/20;
◼ чаще ходить в кино, на концерты — 21/19;
◼ чаще бывать в лесу, на водоемах — 14/15;
◼ больше ездить на мотоцикле, машине — 12/3;
-
в) дополнительные трудовые «обязующие» занятия:
◼ на дополнительные учебные занятия — 15/23; ◼ стал бы дополнительно подрабатывать — 13/12; ◼ больше помогать по домашнему хозяйству — 14/28.
Нетрудно видеть, что интересное, увлекательно и приятное «ничегонеделание» для подавляющего большинства уральских юношей и девушек более притягательно (при свободном волеизъявлении), чем «необходимые» и «навязываемые» учителями и родителями учебные занятия, домашние дела и «дефицит» родительского кошелька [Павлов, 2013, 17, с. 128–138].
За последние два десятилетия в силу произошедшей существенной трансформации экономических и имущественных отношений «поколений отцов и детей» на уровне семейной общности состояние «социальной беззащитности» молодежи «на наших глазах» превращается в свой антипод. Речь идет о формировании воинствующей потребительской психологии значительной (если не большей) части молодых людей, в первую очередь школьников и студентов. «Кто несет (нес в прошлом) основные расходы на Ваше обучение и содержание (питание, одежда, хобби и др. расходы)?» — на этот вопрос в исследовании («Урал-2012) были получены следующие ответы [% от общего числа опрошенных по каждому вузу; в порядке очередности ответы студентов Уральского федерального университета (УРФУ), Уральского государственного университета путей сообщения (Ур-ГУПС); Нижневартовского государственного гуманитарного университета (НГГУ) и др.]: ◼ по преимуществу за все платят (платили) родители — 51/59/60;
◼ часть расходов родители, часть сам респондент — 37/26/25;
◼ за учебу и свое содержание я плачу сам (а) — 9/11/15;
◼ другой вариант — 3/4.
«Ну и что в этом плохого? — Возразят многие. — На то они и родители, чтобы заботиться о будущем своих детей… дать им образование… "вывести в люди"». Трудно не согласиться с такой логикой. Однако забота родителей о профессиональной социализации своих сыновей и дочерей должна предполагать, очевидно, не только формирование чувства духовной благодарности детей своим родителям… [Зырянов, 2009, 18].
Студентам и молодым специалистам («Урал-2012) предлагалось ответить на вопрос: «Оцените, как Вы учитесь (учились) в ВУЗе, как относитесь (относились) к занятиям, Ваше прилежание и усердие в учебе» (% от общего числа опрошенных в каждой группе; в числителе — студенты «Ст» — 1000 чел.; в знаменателе — молодые специалисты «Мс» — 600 чел.):
Ст / Мс
◼ «на пятерки», успешно 11 /10
◼ «на четверки и пятерки» 62 /67
◼ «на троечки» 26 /24
◼ зачастую получалось хуже троечки 1,6 /0,5
Судя по самооценкам молодых людей, подавляющее большинство из них (более 70%) довольно усердно и успешно («на пятерки и четверки») проходят (прошли) курс профессионального обучения. Лишь каждый четвертый (около 25%) сдавал зачеты и экзамены «на троечки», и практически в уральских вузах (опять же по самооценкам) не было и нет «хвостистов» (один-два на каждую сотню опрошенных). Вряд ли нужно доказывать, что нарисованная студентами «картина» их усердия к учебе перенасыщена розовыми тонами. Многочисленные социологические исследования, наша практика работы в уральских вузах показывают обратное [Павлов и др., 2014, 19].
Формирование той или иной компетенции как определяющей профессионально-личностного качества специалиста предполагает актуализацию мотивации студента, его активную, целеустремленную адаптацию к учебному процессу. О трансформации мотиваций в сфере профессиональной социализации молодых людей на Урале свидетельствуют данные нашего опроса «Урал-2012». «В чем Вы видите основные причины практически повального безответственного отношения молодых людей к получению своего профессионального образования?» — на этот вопрос нам ответили как преподаватели вузов, так и руководители предприятий, производств, подразделений. Вот их мнение по этому поводу (% от общего числа опрошенных» в числителе — преподаватели вузов — 250 чел.; в знаменателе — руководители производств — 150 чел.): ◼ студенты особо не задумываются о своей даль нейшей трудовой деятельности — 52/65;
◼ платное обучение диктует кафедрам и преподавателям снисходительно относиться к нерадивым студентам — 46/43;
◼ у работающих студентов существенно ограничены возможности для серьезных занятий в вузе — 33/36;
◼ молодые люди поддаются общему настроению — учиться без особого «напряга» — 30/22;
◼ низкая требовательность к студентам со стороны администрации вуза — 28/30;
◼ молодые люди не приучены к труду и трудностям — 29/37;
◼ отсутствие потребности получить серьезные профессиональные знания — 25/25;
◼ виноваты преподаватели, которые не могут заинтересовать студентов серьезно относиться к учебе — 17/17;
◼ студенты надеются и после окончания вуза «сидеть на шее» родителей — 10/10.
«Зри в корень!» — советовал Козьма Прутков. Отмеченные экспертами причины низкой заинтересованности студентов в качестве своего профессионального образования — это своеобразный компас в проведении модернизации системы высшего образования. И не только на Урале! [Малышева, Коновалова, 2009, 20]. Вариант дальнейшего жизнеобеспечения нерадивых студентов «продолжать использовать» все ту же «шею родителей» набрал всего 10%. Заметим, кстати, что в режиме «сидя на шее родителей» высшее образование на Урале получают сегодня (и получили «вчера») более 50–70% студентов. По мнению экспертов, в жизненных планах предусматривается переориентация «с родительской шеи» на «шею государства», расчет на благотворительность успешно работающей и «хорошо платящей деньги» трудовой ассоциации, на «доброхота-работодателя». Для молодых женщин с вузовским дипломом — это, помимо всего, стремление и возможность «занять вакансию» жены в семье успешно зарабатывающего деньги мужа-предпринимателя
И еще один небезынтересный факт. Для уральских студентов-«политехов» в анкете «Урал-2010» был поставлен довольно «щекотливый» вопрос: «Как Вы думаете, что из перечисленного ниже является грехом, а что не является?». Респондентам предлагался список из 21 форм поведения (отношения) в молодежной среде, относимых в общественном мнении, как правило, к разряду «асоциальных», «деструктивных», «недопустимых» и т.д. При этом студенту по нашей просьбе вменялось по каждому из 21 варианту дать свою оценку: это «Грех» или «НЕ Грех». Вот как распределились мнения наших респондентов. Ниже мы поместили оценки различных деяний, относимых студентами к разряду «негрешных» и, соответственно, допустимых для себя и окружающих (% от общего числа опрошенных в каждой группе; в числителе — мужчины — чел., в знаменателе — женщины — чел.): ◼ гомосексуализм — 35/62;
◼ аборт — 34/23;
◼ проституция — 42/34;
◼ измена (жене/мужу) — 43/35;
◼ употребление легких наркотиков — 56/49;
◼ пьянство — 62/55;
◼ курение — 78/76;
◼ употребление в разговоре матерных слов — 79/74; ◼ половые отношения до вступления в брак (для девушки) — 86/88;
◼ половые отношения до вступления в брак (для юноши) — 95/90;
◼ сокрытие доходов от налоговой инспекции — 90/87;
◼ нарушение правил дорожного движения — 93/87.
Для заинтересованного и компетентного читателя приведенные в таблице данные, на наш взгляд, составляют серьезный предмет для размышлений о состоянии не только духовной культуры и морали передового, наиболее образованного отряда российской молодежи — студенчества. Эти данные позволяют перекинуть мосток от ценностных ориентаций студентов к возможным культивируемым ими «греховным» потребностям и, далее, к поиску услуг, «помогающих» удовлетворить ту или иную потребность.
А как меняется материальное положение и экономическое поведение неженатых и незамужних детей после посещения ЗАГСа, сопровождаемое маршем Мендельсона? Обратимся к нашим опросам молодых семейных уральцев-родителей. Как оценивают уровень своей жизни молодые папы и мамы на Урале? (табл. 4).
При всех имеющихся проблемах молодых семей на Урале нетрудно видеть, что значительная часть молодых отцов и матерей (судя по самооценкам) чувствуют себя экономически гораздо комфортнее, чем уральские «взрослые» семьи («семьи бабушек») — сравните табл. 1 и 3. Обратимся к результатам опроса «Урал-2003». Молодым супругам задавали два вопроса. Первый из них формули- ровался так: «Что особенно тревожит Вас (Вашу семью) в настоящее время? Постарайтесь выбрать 4–5 самых острых для Вас проблем» (вопрос «А»). Респонденту предлагался формализованный перечень проблем (состоящий из 12 позиций), с которыми сталкиваются (в той или иной мере) большинство российских семей в своей повседневной жизни. В развитие первого ставился второй вопрос: «Какие из отмеченных выше проблем, трудностей, по Вашему мнению, могут быть преодолены Вами в ближайшие три-пять лет?» (вопрос «Б»). Вот некоторые выводы из полученных данных. Прежде всего, о стоящих перед молодыми семьями первоочередных экономических проблемах. Их три (% от общего числа опрошенных по каждой группе молодых семей: в числителе ответы на вопрос «А», в знаменателе — на вопрос «Б»). Полученные нами данные позволяют выявить различия не только в соотношении актуальности тех или иных проблем для современных молодых российских семей, но и проанализировать влияние фактора детности на складывающуюся палитру проблем в каждом типе молодой семьи. Обратимся вновь к некоторым показателям табл. 5.
Прежде всего, обращает на себя внимание факт практической идентичности в соотносительности актуальности проблем в молодых семьях, не имевших (на момент опроса) детей, и их более «многодетных» сверстников. Нам представляется, что по большому счету взаимосвязь остроты жизненных проблем и наличия того или иного количества детей в большинстве своем зависят не от фактора детности, а от жизнеспособности молодых супругов, их ориентации на активную жизненную позицию, умения адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям, их установки на ту или иную оптимальную модель собственной семьи и решимости бороться за реализацию этой модели. Естественно, сказанное выше не исключает многообразие и нюансы ситуаций, в которых
Таблица 4
Самооценка молодыми супругами уровня жизни своих семей (% от общего числа опрошенных по каждому исследованию)
|
Год, число респондентов |
География опроса |
Варианты самооценок* |
|||
|
А |
Б |
В |
Г |
||
|
Молодые семьи |
|||||
|
2003 г., 2900 чел. |
РФ — шесть регионов — «Урал-2003» |
12 |
63 |
22 |
3 |
|
2004 г., 890 чел. |
Екатеринбург |
14 |
66 |
19 |
1 |
|
2006 г., 290 чел. |
Нижневартовск |
13 |
79 |
7 |
1 |
|
2006 г., 600 чел. |
Свердловская область |
14 |
67 |
18 |
1 |
|
2011 г., 600 чел. |
УрФО (пять субъектов РФ) |
13 |
81 |
5 |
1 |
|
2012 г., 600 чел. |
Екатеринбург — молодые специалисты — «Урал-2012» |
13 |
82 |
5 |
2 |
* Значение аббревиатур колонок аналогично табл. 1 и 2.
Таблица 5
Актуальные проблемы молодых уральских семей и ожидаемые сроки их решения
(% от общего числа опрошенных по каждой группе; в числителе ответы на вопрос «А»; в знаменателе — «Б»)
«Пожалуйста, укажите, какие дополнительные (помимо основного заработка, пенсии, пособия) материальные источники имеются у Вас в семье? отметьте, пожалуйста, все из имеющихся». Ответы 2900 молодых супругов на этот вопрос «Урал-2003» представлены в табл. 6.
Отметим, что примерно каждая четвертая (25–27%) молодая семья на Урале вне зависимости от числа имеющихся детей (подчеркнем еще раз, на момент опроса) живет, как говорят, «на одну зарплату». Как показало наше исследование, с ростом «детной нагрузки» молодых семей (нет ребенка — один ребенок — два ребенка…) «ослабевает» материально-финансовая поддержка со стороны их родительских семей (потенциальных и реальных бабушек и дедушек). Бездетной молодой семье помогают 48% их старших родителей, при появлении первенца эта помощь несколько снижается (42%) и еще больше снижается при появлении третьего — 32%. Другими словами, большая часть старшего поколения российских семей (уже «отработавших» на демографическом фронте), «не принимают близко к сердцу» призыв властей «увеличить деторождаемость», а именно «поселить в молодую семью своих детей второго ребенка-внука (обязательно) и третьего (желательно)». «Демографы утверждают, что выбор в пользу второго ребенка — это уже потенциальный выбор в пользу третьего. Важно, чтобы семья сделала такой шаг, и, несмотря на сомнения некоторых экспертов..., нормой в России должна стать семья с тремя детьми, но чтобы это было так, нужно многое сделать» [22].
Дополнительные к зарплате источники доходов в молодых уральских семьях (% от общего числа опрошенных по каждой группе семей)
Таблица 6
|
Дополнительные материально-финансовые источники дохода молодых семей на Урале (на момент опроса) |
Группы молодых семей: |
|||
|
В целом |
в том числе семьи с числом детей: |
|||
|
нет |
один |
двое |
||
|
«Бесплатная» помощь молодой семье «извне» |
||||
|
Помощь родителей, ближних родственников |
42 |
48 |
43 |
32 |
|
Помощь друзей, знакомых |
4,4 |
4,0 |
4,8 |
4,3 |
|
Никаких источников дохода, кроме зарплаты, пособия, не имели |
26 |
25 |
25 |
27 |
|
«Дополнительная трудовая деятельность в сфере общественного производства» |
||||
|
Постоянная дополнительная работа |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Разовые подработки, разовые работы |
31 |
33 |
31 |
29 |
|
Доходы от ценных бумаг |
7 |
5 |
7 |
12 |
|
Индивидуальная «предпринимательская» деятельность |
||||
|
Личное подсобное хозяйство (сад, огород) |
20 |
18 |
19 |
23 |
|
Собирают в лесу ягоды, грибы, травы |
15 |
13 |
16 |
16 |
|
Шьют, вяжут, ремонтируют вещи на заказ |
3,8 |
2,8 |
3,5 |
6 |
|
Оказывают платные услуги (уход за ребёнком, ремонт квартир и пр.) |
3,2 |
2,6 |
3,4 |
3,8 |
|
Реализуют «с рук» промышленные и продовольственные товары |
2,3 |
2,2 |
2,0 |
3,1 |
На переломе ХХ и ХХI в. в России наряду с однодетными семьями «вошли в моду» одновнучатые дедушки и бабушки. И не здесь ли нужно искать сегодня существенные резервы в повышении демографической активности молодых россиян? Важно на уровне государства «научиться» использовать достаточно большой временной, материальный, педагогический потенциал «молодых» и полных сил, задора пенсионеров. Подчеркнем: не только «научиться использовать», но и адекватно поощрять труд и участие старших поколений россиян в воспроизводстве молодых поколений. Как в количественном, так и качественном измерениях. Сегодня «бабушки» и, естественно, «дедушки» необходимы в первую очередь не на сценах, катках, кортах и на «бескрайних» «Полях чудес»…, хотя это можно приветствовать. В заботах российских бабушек и дедушек нуждаются их родные и любимые внуки, как уже рожденные, так и «ждущие» своей чудесной возможности «появления на ЭТОТ СВЕТ».
Список литературы Диссонанс потребительских притязаний и трудовой активности в молодежной среде на Урале
- Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социальная регуляция в условиях неопределенности. Теоретические и прикладные проблемы в исследовании молодежи. М.: Академия, 2008. 272 с. EDN: XSNCSZ
- Лукс Г.А. Социальное инновационное проектирование в региональной молодежной политике. Самара: Самарский университет, 2003. 278с. EDN: QOCQKV
- Левашов В.К., Афанасьев В.А., Новоженина О.П., Шушпанова И.С. Экспресс-информация. Как живешь, Россия? XL этап социологического мониторинга, июнь 2014 года. -М. ИСПИ РАН. 2014. -52 с. EDN: TSSFKJ
- Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письмо девятое. О социализме. //Режим доступа: http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev.
- Возьмитель А.А. Образ жизни: тенденции и характер изменений в пореформенной России. -М.: Институт социологии РАН, 2012. -230 с. EDN: QONURJ