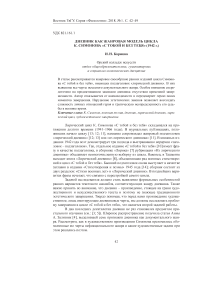Дневник как жанровая модель цикла К. Симонова "С тобой и без тебя" (1942 г.)
Автор: Коржова Инесса Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается жанровое своеобразие ранних изданий цикла Симонова «С тобой и без тебя», имеющих подзаголовок «лирический дневник». В них выявлены все черты исходного документального жанра. Особое внимание сосредоточено на продиктованном законами дневника отсутствии временной завершенности. Автор отказывается от вненаходимости и передоверяет герою поиск моментов завершения. Нарушение эстетических законов позволяет воссоздать сложность личных отношений героя и трагическую неопределенность его судьбы в военное время.
К. симонов, военная поэзия, дневник, лирический дневник, лирический цикл, художественное завершение
Короткий адрес: https://sciup.org/146278402
IDR: 146278402 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Дневник как жанровая модель цикла К. Симонова "С тобой и без тебя" (1942 г.)
Лирический цикл К. Симонова «С тобой и без тебя» складывался на протяжении долгого времени (1941–1966 годы). В журнальных публикациях, положивших начало циклу [13; 12; 11], название сопровождал жанровый подзаголовок «лирический дневник» [12; 13] или «из лирического дневника» [11]. В книжных изданиях 1942 года поэт демонстрирует три подхода к выстраиванию иерархии «заголовок – подзаголовок». Так, отдельное издание «С тобой и без тебя» [10] имеет фразу в качестве подзаголовка, в сборнике «Лирика» [7] рубрикация «Из лирического дневника» объединяет немногочисленную выборку из цикла. Наконец, в Ташкенте выходит книга «Лирический дневник» [8], объединившая ряд военных стихотворений и цикл «С тобой и без тебя». Бывший подзаголовок снова выступает в качестве заглавия в издании «Стихотворения и поэмы» 1945 года [14]; сборник состоит из двух разделов: «Стихи военных лет» и «Лирический дневник». В позднейших вариантах фраза исчезает, что связано с перестройкой самого цикла.
Задачей исследователя должно стать выявление формальных особенностей ранних вариантов текстового ансамбля, соответствующих жанру дневника. Также важно принять во внимание, что дневник – произведение, стоящее на грани художественного и нехудожественного текста и поэтому не знающее традиционного эстетического завершения. Твердо понимая, что перед нами произведение художественное, лишь имитирующее дневниковые черты, мы должны исследовать проблему завершения в цикле «С тобой и без тебя», что является второй задачей работы.
В два последних десятилетия дневник не раз становился предметом пристального изучения (см.: [3; 5]). Широкое распространение получила статья Анны А. Зализняк [4], выделившей семь признаков дневника как документального жанра. Рассмотрим, как в художественном произведении Симонова преломились обозначенные ею черты нефикционального жанра и какие художественные задачи при этом решались поэтом.
«Автор является одновременно адресатом, и при этом имеется потенциальный второй, косвенный, адресат» [Там же]. Даже при условии, что художественный дневник лишь репрезентует особенности исходного жанра, коммуникативная природа «С тобой и без тебя» гораздо сложнее предложенной схемы. Внешне цикл вовсе лишен черт автокоммуникации: абсолютное большинство текстов (21 из 25) обращено к лирической героине, 3 имеют других адресатов, и лишь один безадресный (количество стихотворений указываем суммарно на основе публикаций цикла в 1942 году отдельным изданием и в составе книги «Лирика»; варианты незначительно различаются по составу). Сам Симонов, публикуя в 1968 году сборник «Военная лирика. 1936–1956», в который включил и посвященную войне часть цикла «С тобой и без тебя», писал о собранных стихах: «Некоторые из них вначале в моем собственном представлении были скорее личными письмами в стихах, чем стихами, предназначенными к печати. Впоследствии они были напечатаны, но в них сохранился в неприкосновенности этот оттенок стихов-писем» [6, с. 5]. Дневниковеды М. Михеев [5, с. 68–71], О. Егоров [3, с. 8–9] упоминают случаи подобного жанрового скрещения: реальные дневники в письмах, «отличие эпистолярного дневника от обычного информативного письма заключалось в строгой регулярности и в отсутствии установки на ответ. Хотя ответные письма и получались авторами таких дневников, изначально они (ответы) не входили в замысел авторов» [Там же, с. 9].
Стихотворения Симонова ближе именно к такому симбиотическому жанру, чем непосредственно к письмам. Коммуникативная природа его произведений сложна: при наличии местоимений второго лица большинство стихотворений лишено просьб и призывов. Повелительные конструкции («жди меня» [7, с. 44–45], «меня ты помяни» [Там же, с. 43], «не сердитесь» [Там же, с. 46], «пожелайте счастья москвичам» [Там же, с. 49], «вспоминайте» [Там же, с. 51], «прости» [Там же, с. 63]) встречаются лишь в пяти стихотворениях. Некоторые тексты, будучи рассмотрены как письма, и вовсе оказываются лишены цели, так как пересказывают ситуации, потенциально известные адресату. Эти особенности позволяют нам видеть в цикле дневник, но дневник, созданный сознанием, почти одержимым любимой, развернутым к ее взгляду. Неизменное «ты» в стихотворениях Симонова скорее не прямой, а выявленный А. Зализняк «потенциальный, второй адресат» [4] – человек, на чье прочтение надеется автор, но кому прямо не передает дневников. Особенно любопытно в коммуникационном плане стихотворение «Твой голос поймал я в Смоленске» (включено в сборник 1945 года), оно рассказывает о сожжении неотправленного послания. Финал текста – грамматически парадоксально оформленный отказ от коммуникации: «Меня до сих пор ты не любишь, / А я не пишу до сих пор» [14, с. 87]. Обращенность мыслей к возлюбленной сохраняется даже при волевом заявлении об отсутствии общения.
Жанр дневника предполагает потенциального адресата, с которым обычно и ассоциирует себя читатель, словно бы невольно заглядывающий в чужие записи. Но в «С тобой и без тебя» это впечатление подсмотренной наготы души усилено, поскольку место потенциального читателя уже занято лирической героиней. От этого взгляд читателя кажется вдвойне непредусмотренным, и создается та иллюзия случайного вторжения, которая и обеспечивает особое эмоциональное воздействие цикла.
-
2. «Автор является одновременно повествователем, то есть в дневнике отсутствует повествователь как отдельный от автора виртуальный наблюдатель и повествующая инстанция» [4]. Второй пункт неукоснительно соблюдается во всех стихотворениях цикла: поэт нигде не переходит к третьеличной форме.
-
3. «Нефикциональность текста дневника» [Там же]. Казалось бы, этот пункт может только имитироваться художественным текстом. Но подчеркнутая Симоновым интимная дневниковость цикла говорит о предельной близости лирического героя поэту, а лирического сюжета – реальной биографии. Это подтверждает уже приводимое высказывание об изначально личном характере многих стихотворений-писем. О том же говорит Симонов в своем подлинном военном дневнике «Разные дни войны»: «Все сколько-нибудь существенное, связанное с моей личной, в узком смысле этого слова, жизнью в те военные годы сказано в тех из моих стихов этого времени и первых послевоенных лет, которые впоследствии соединились в цикл “С тобой и без тебя”» [9, т. 9, с. 236]. Произведение фикциальное названо писателем дополнением к дневнику реальному. Таким образом, жанровое обозначение «дневник» во фразеологии Симонова не просто указывает на претворенную в художественных нуждах форму первичного жанра, но как раз призывает забыть о художественной природе текста, видеть в написанном документ, продиктованный жизнью.
-
4. «Отсутствие единого авторского замысла. Художественное произведение обязательно предполагает таковой, и это обстоятельство входит в число конвенций отношений с адресатом» [4]. Думается, правомерно предположить, что речь здесь идет о том феномене, который М. М. Бахтин называл авторским завершением, прежде всего о его временном и ценностном планах. В лирике, согласно исследователю, «…автор, чтобы овладеть героем на этой его внутренней, интимной позиции, сам должен утончиться до чисто внутренней вненаходимости герою, отказаться от использования пространственной и внешне временной вненаходимости (внешне временная вненаходимость нужна для отчетливой концепции законченной фабулы)» [1, c. 147]. Но, по мнению И. В. Фоменко, «циклическое образование занимает особое место в родовой иерархии. Даже если оно сформировано из “чисто” лирических стихотворений, то, оставаясь по первичным своим признакам лирикой, оно приближается к самой границе эпоса, обогащаясь его объективностью. Оно обречено быть лироэпосом…» [16, c. 16]. А значит, в цикле актуализируется необходимость временной завершенности.
Л. Я. Гинзбург, рассматривая документальные жанры, подчеркивает отсутствие временного завершения в жанре реального дневника: «Мемуары, автобиографии, исповеди – это уже почти всегда литература, предполагающая читателей в будущем или в настоящем, своего рода сюжетное построение образа действительности и образа человека, тогда как письма и дневники закрепляют еще не предрешенный процесс жизни с еще неизвестной развязкой» [2, c. 10]. Таким образом, Симонов выбирает для фабульного произведения (цикла) форму, принципиально понятие фабулы отрицающую. Но цикл 1942 года не просто имеет открытый финал – его герой остро проблематизирует вопрос открытости будущего. Его вопрошание совершается перед лицом смерти, при остром осознании, что любой момент может стать завершением жизни, то есть открытость финала остро переживается самим героем.
«С тобой и без тебя» – цикл, дважды распахнутый в жизнь: герой находится под влиянием двух не зависящих от него феноменов – прихотливого характера возлюбленной и логики течения войны. Уже во многих доиюньских стихотворениях силен гадательный модус, психологически объясняемый неустойчивостью любовных отношений. Стремление прорваться сквозь завесу времени обычно завершает стихотворения: «Мечтой себя тревожу я» [7, c. 26], «Как я хочу придумать средство,
/ Чтоб счастье было впереди» [Там же, с. 29], «Будь хоть бедой в моей судьбе» [Там же, с. 37]. Часто оно выражено грамматически – в переходе к будущему времени: «Все я жду, что с елки / Мне тебя подарят» [Там же, с. 27], «Может, и меня переживешь ты, / Поговорки злой не переспоря» [Там же, с. 34], «И если будет суждено / Тебя мне удержать» [Там же, с. 36]. В послеиюньской лирике настойчивым напоминанием о реальности войны звучат фразы о возможной смерти: «Я верю. Мы во что бы то ни стало / В конце концов увидимся с тобой. // А если нет <…> меня ты помяни» [Там же, с. 43], «До смерти не простясь с тобою» [Там же, с. 56], «Я сам назавтра, может быть, / Сравняюсь где-нибудь с тобою <убитым товарищем>» [Там же, с. 57] , « Прости, что я зову тебя женой / По праву тех, кто может не вернуться» [Там же, с. 63], «Загадывать на год война нам мешала» [Там же, с. 64], «Нас пули с тобою пока еще милуют» [Там же, с. 75], «Клянусь, что если доживу» [Там же, с. 79]. Даже не упоминающие о войне стихотворения становятся вдвойне напряженными, потому что развязкой любовной истории всегда может оказаться смерть, и это меняет ценностные установки лирического героя.
Симонов намеренно не выстраивает композицию цикла, отказываясь от авторской активности в пользу воссоздания логики написания. Так, после «Жди меня», резко ослабляя пафос, поэт помещает полное иронического сомнения в верности возлюбленной «Не сердитесь, к лучшему». В «Разных днях войны» находим объяснение таким шероховатостям композиции: «За эти семь дней, кроме фронтовых баллад для газеты, я вдруг за один присест написал “Жди меня”, “Майор привез мальчишку на лафете” и “Не сердитесь, к лучшему”» [9, т. 8, с. 205]. Интересно, что в окончательной версии цикла, сложившейся в 1966 году и в основном опирающейся на композицию сборника 1942 года, «Не сердитесь, к лучшему» поставлено много позже стихоторения-заклятья. Тогда дневник уже был превращен в роман.
Еще одно противоречие – «Я очень тоскую», помещенное в разделе «Север» (в собрании сочинений 1966 года оно присоединено к доиюньским текстам). Только провозгласив в «На час запомнив имена»: «В другое время, может быть, / И я бы прожил час с чужою, / Но в эти дни не изменить / Тебе ни телом, ни душою» [7, с. 56], закрепив центральную для этой части цикла оппозицию прошлого и настоящего, герой заявляет о поиске «другой», хотя и невозможном, но желанном для него. Противоположные трактовки, причем в близко расположенных текстах, приобретает и мотив слепоты. В стихотворении «Да, я люблю тебя еще сильней», благодаря наречию «еще», имплицитно содержащему идею сравнения довоенного прошлого с настоящим, герой сравнивает себя со слепцом, потерявшим зрение из-за красоты возлюбленной и закрывшим глаза на ее грехи. Но в стихотворении «Словно смотришь в бинокль перевернутый», отделенным от вышеназванного всего одним текстом, герой обещает: «Мы, пройдя через кровь и страдания, / Снова к прошлому взглядом приблизимся. / Но на этом далеком свидании / До былой слепоты не унизимся» [10, с. 43]. Наконец, перед финальными текстами, утверждающими обретенный на войне новый взгляд на мир, помещено стихотворение «Я помню двух девочек, город ночной». Состоящее из трех строф, объединенных анафорой, оно рисует прошлое, настоящее и будущее в их единстве и стабильности, девочки становятся символом неизменности чувства героя к героине. Все эти противоречия передают спонтанность дневника, отказ от установки на авторское эстетическое завершение.
В целом же цикл, особенно заключительный раздел «Север», сосредоточен на поиске самим героем завершения собственной жизни, для чего он нередко антиципирует свою смерть. Эта позиция, неестественная с точки зрения эстетической, почти изломанная, отражает реалии войны. Л. Я. Гинзбург и О. Г. Егоров признают, что в природе документальных жанров заложен эстетический, хотя и еще не художественный взгляд на собственную жизнь. Попытка его обрести сделана в финале «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», в котором слова со значением уступки свидетельствуют, что это обретение совершается вопреки логике линейного времени: «Нас пули с тобою пока еще милуют. / Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, / Я все-таки горд был за самую милую, / За горькую землю, где я родился…» [7, с. 75]. Особо возможная смерть как фактор, задающий новое осмысление жизни, выделена в стихотворении «Мне хочется назвать тебя женой». Оно полностью построено на отрицательных анафорах «не потому», перечисляющих неурядицы в отношениях влюбленных. Но в этой перспективе герой не может обрести ценностного завершения, и финальная строфа представляет резкий конфликт двух взглядов на собственную жизнь: «Кем стала ты? Моей или чужой? / Отсюда сердцем мне не дотянуться… / Прости, что я зову тебя женой / По праву тех, кто может не вернуться» [Там же, с. 63]. Вопрошания подразумевают временную перспективу – две последние строчки обрубают ее и дают новую, парадоксальную по отношению ко всему сказанному выше оценку.
Итак, «Дневник» 1942 года как бы избавлен от другого завершения, кроме того, которое становится объектом рефлексии и обретением самого лирического героя. Разомкнутость времени ощущается и в финальном тексте «Я, перебрав весь год, не вижу». Выбирается намеренно формальное завершение – календарная дата, Новый год. Автор как бы принципиально ставит многоточие. Оно поддерживалось и самим фактом параллельной публикации стихотворений в периодике. До книг вышла «Тетрадь вторая» [12], после «Цикл третий» [10]. Конечно, контекст времени способствовал этому эффекту незавершенности. Но Симонов проявил творческую смелость, решаясь нарочито не выходить из этой временной неопределенности в своем цикле.
-
5. «Дневник – это текст о себе. <…> Ощущение ценности этой личности является тем стержнем, который скрепляет – содержательно, стилистически, эмоционально и т. д. – разнородные записи, являясь аналогом отсутствующего в дневнике авторского замысла, но иной семиотической природы» [4]. Если определять исследуемый цикл в категориях, применяемых к нехудожественному дневнику, то, несмотря на большую роль времени, все же следует признать, что текст относится к типу с психологическим хронотопом, по определению О. Г. Егорова, то есть к разновидности дневника, созданной, «чтобы отмечать в нем события душевной жизни. Для них повседневные явления действительности были важны в той мере, в какой они имели непосредственное отношение к фактам сознания» [3, c. 48]. Само открытое время, как было показано выше, постоянно осмысляется и подается в субъективном восприятии.
-
6. «Дневник – это текст о текущем моменте (о сегодняшнем дне или нескольких прошедших днях, но не более)» [4]. В цикле Симонова большинство стихотворений выражает эмоциональное состояние момента, в них мало вневременных текстов обобщающего плана. Более того, в ряде случаев эмоция становится ответом на конкретный импульс-событие. Это «Майор привез мальчишку на лафете», «Ты говорила мне люблю», «Над черным носом нашей субмарины», «Мы не увидимся с тобой», «В домотканом деревянном городке», «Я пил за тебя под Одессой в землянке», «Меня просил попутчик мой и друг», «Я, перебрав весь год, не вижу». Протяженность времени подчеркнуто исчисляется днями – «Я не помню, сутки или десять» [7, c. 49], «В этом городе пять дней я тосковал» [Там же, с. 59]. И даже в стихотворениях, где сильна тема воспоминания, а они конденсируются в конце цикла («Я помню двух девочек, город ночной», «Словно смотришь в бинокль перевернутый», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Я, перебрав весь год, не вижу»), описывается не столько прошлое, сколько его сегодняшняя рефлексия.
-
7. «Наличие метатекстовой даты записи, соответствующей именно моменту записи, а не дате описываемых событий; в этом отношении дневник в собственном смысле слова отличается, например, от описания путешествия» [4]. В изданиях 1942 года стихотворения маркированы месяцем и указанием на место написания. Симонов создает эффект совпадения художественной и внеэстетической действительности: датировка записи является одновременно датировкой написания стихотворения, текстом и метатекстом. Эта двойственность подчеркнута разбиением на разделы («До июня», «Запад», «Юг», «Север») [7], разумеется, полностью совпадающие с географией создания стихотворений-записей. Не только этот двойной статус даты, но и использование в качестве вех душевной жизни названий фронтов служит мощным средством проблематизации отношений «человек – историческое время» в тексте. Июнь выделен в цикле как важный рубеж, поделивший жизнь каждого человека надвое. В целом, внутренний мир героя раскрывается как ценный, но не самодостаточный, откликающийся на движение времени, прямо находящийся в зависимости от пространства и времени.
Эпитет «лирический» в подзаголовке в первую очередь указывает именно на субъективное преломление событий, а не на род литературы. В книге «Тридцать шестой – семьдесят первый» [15] Симонов располагает свое поэтическое наследие следующим образом: книгу открывает раздел «Лирика», куда включены поэмы и цикл «С тобой и без тебя», далее в хронологическом порядке следуют другие разделы, также поэтические, но уже как бы не относящиеся к лирике. Таким образом, слово «лирика» в окказиональном употреблении поэта указывает на откровенно личностную ноту стихотворений. Важно, что стихотворения цикла-спутника «Война» или не имеют выраженного субъекта речи или, в абсолютно преобладающем большинстве случаев, написаны от лица обобщенно-личного «ты». Поэтому «лирика» для Симонова – поэзия, фиксирующая внутренний опыт и очень четко отграниченная от других текстов перволичной грамматической формой.
В лирическом цикле преломились реально бывшие с поэтом события. По дневнику «Разные дни войны» мы установили даты части из них: «Над черным носом нашей субмарины» (9–10 сентября 1941), «В домотканом деревянном городке» (30 сентября – 3 октября 1941), «Я пил за тебя под Одессой в землянке» (между 8 и 17 октября 1941), вошедшее в сборник 1945 года «Хозяйка дома» (21 января – 10 февраля 1942), «Твой голос поймал я в Смоленске» (упомянуты события 8 и 12 июля 1941 года, не установлена дата рефлексии над ними). Но в цикле соблюдается не этот порядок, а последовательность создания текстов. Наиболее показательно включение стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» в раздел «Север», ибо, как следует из «Разных дней войны», произведение было создано 18– 26 ноября 1941 года, хотя осмысляемые события произошли на западном фронте 6 июля 1941. Поэт строго следует логике дневника и прикрепляет событие к моменту вторичной рефлексии – к воспоминанию об открытии Родины, а не к самому этому открытию.
Однако работа с военным дневником выявила и факт расхождения между порядком помещения записи-стихотворения в цикле и реальной последовательно- стью написания текстов. Стихотворение «Я не помню, сутки или десять», в котором отразились события 23–24 августа 1941 года, написано после возвращения из Одессы, а следующее за ним «Если бог нас своим могуществом» создано 26 августа, еще во время пребывания в городе. В данном случае при публикации Симонов руководствовался логикой отраженных событий, а не порядком написания текстов. Перестановка никак не видна в цикле, напротив, события словно бы описаны по горячим следам, как в нехудожественном дневнике. Однако в издании 1945 года верность жизни возобладала, и поэт переставил стихотворения местами, восстанавливая реальный порядок создания текстов.
Дальнейшая история цикла представляется во многом преодолением днев-никовости. В 1950-х годах Симонов несколько раз перестраивает ансамбль, разрушая последовательность стихотворений, уничтожая сюжет и приближаясь к музыкальной композиции. В окончательном варианте 1966 года всё с небольшими изменениями возвращается на свои места, но цикл уже не является дневником, поэт допускает небольшие перестановки и изъятия, руководствуясь требованиями эстетического завершения. Дневник не возможен, потому что цикл заканчивается не просто смертью любви, но и смертью прежнего героя: «Я схоронил любовь и сам себя обрёк / Быть памятником ей. Над свежею могилой / Сам на себе я вывел восемь строк, / Посмертно написав их через силу» [15, с. 133]. М. М. Бахтин говорил, что для ценностного завершения произведения необходима именно установка на исчерпанность жизни: «Я <…> должен перестать любить, чтобы пережить свою любовь во всех моментах ее душевной наличности <…> Я должен стать другим по отношению к себе самому – живущему эту свою жизнь в этом ценностном мире…» [1, c. 100]. Цикл обрел эстетически вненаходимого автора, но перестал быть дневником.
Orsk College of Arts, Orsk
Department of General Education, Humanitarian and Socioeconomic Disciplines
About the author:
KORZHOVA Inessa Nikolaevna – Candidate of Philology, Head of the Department of General Education, Humanitarian and Socioeconomic Disciplines, Orsk College of Arts (462422, Orenburg region, Orsk, Sovetskaya str., 65), e-mail: clean24@ yandex.ru.
Список литературы Дневник как жанровая модель цикла К. Симонова "С тобой и без тебя" (1942 г.)
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.
- Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. М.: INTRADA, 1999. 412 с.
- Егоров О. Г. Русский литературный дневник XIX века. История и теория жанра. М.: Флинта, Наука, 2011. 177 с.
- Зализняк А. Дневник: к определению жанра //НЛО. 2010. № 106. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/za14.html. (Дата обращения: 05.11.2017.)
- Михеев М. Дневник в России XIX-ХХ века -эго-текст, или пред-текст. М., 2006. //Universitas personarum. URL: http://uni-persona. srcc.msu.su/site/research/miheev/kniga.htm. (Дата обращения: 05.11.2017.)
- Симонов К. Военная лирика. 1936-1956. М.: Советская Россия, 1968. 175 с.
- Симонов К. Лирика. 1942. М.: Молодая гвардия, 1942. 110 с.
- Симонов К. Лирический дневник. : Советский писатель, 1942. 32 с.
- Симонов К. Разные дни войны. Дневники писателя//Симонов К.М. Собр. соч.: в 10 т. Т. 8, 9. М.: Худож. лит., 1983.
- Симонов К. С тобой и без тебя. М.: Правда, 1942. 48 с.
- Симонов К. С тобой и без тебя: Из лирического дневника. Цикл третий//Новый мир. 1942. № 11-12. С. 109-114.
- Симонов К. С тобой и без тебя (Лирический дневник)//Красная новь. 1942. Кн. первая-вторая. С. 30-35.
- Симонов К. С тобой и без тебя: Лирический дневник//Новый мир. 1941. № 11-12. С. 18-25.
- Симонов К. Стихотворения и поэмы. М.: Гослитиздат, 1945. 254 с.
- Симонов К. Тридцать шестой -семьдесят первый. М.: Худож. лит., 1972. 494 с.
- Фоменко И. В. Поэтика лирического цикла: автореф. дис. … докт. филол. н.: 10.01.08/И. В. Фоменко; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М., 1990. 32 с.