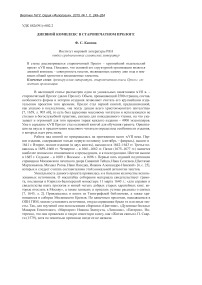Дневной комплекс в старопечатном прологе Ф. С. Капица
Автор: Капица Федор Сергеевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается старопечатный Пролог – крупнейший издательский проект xVII века. Показано, что основой его структурной организации является дневной комплекс – совокупность текстов, посвященных одному дню года и имеющих общий хронотоп и внесюжетные элементы.
Древнерусская литература, старопечатная книга, пролог, сюжетная организация
Короткий адрес: https://sciup.org/146121621
IDR: 146121621 | УДК: 882(091)+002.2
Текст научной статьи Дневной комплекс в старопечатном прологе Ф. С. Капица
В настоящей статье рассмотрен один из уникальных памятников xVII в. – старопечатный Пролог (далее Пролог). Объем, превышающий 2500 страниц, состав, особенности формы и история создания позволяют считать его крупнейшим издательским проектом того времени. Пролог стал первой книгой, предназначенной, как указано в послесловии, «на ползу душам всего христоименитаго жителства» [7, 1659, л. 905 об], то есть был адресован массовому читателю и использовался не столько в богослужебной практике, сколько для повседневного чтения, на что указывает и огромный для того времени тираж каждого издания – 4900 экземпляров. Уже к середине xVII Пролог стал основной книгой для обучения грамоте. Ориентация на вкусы и предпочтения массового читателя определила особенности издания, о которых идет речь ниже.
Работа над книгой не прекращалась на протяжении всего xVII века. Первое издание, содержавшее только первую половину (сентябрь – февраль), вышло в 1641 г. Второе, полное издание (в двух книгах), выходило в 1642–1643 гг. Третье появилось в 1659–1660 гг. Четвертое – в 1661–1662 гг. Пятое (1675–1677 гг.) является наиболее полным по отношению и к предыдущим, и к последующим. Шестое вышло в 1685 г. Седьмое – в 1689 г. Восьмое – в 1696 г. Первые пять изданий подготовили справщики Московского печатного двора Савватий Тейша, Иван Селезнев, Шестачко Мартемьянов, Михаил Рогов, Иван Наседка, Иоаким Александро-Невский» [4, с. 25], которых и следует считать составителями этой уникальной антологии текстов.
Уникальность данного проекта проявилась и в большом количестве использованных источников. О масштабах собирания материала свидетельствует грамота, посланная в Кирилло-Белозерский монастырь 11 марта 1640 г.: «для справки и свидетелства взять прологов и миней четьих добрых старых харатейных книг, которые отослать в Москву», а также записать и прислать устные рассказы о святых [7, 1643, л. 2]. Привлекались и книги из Типографской библиотеки, а также хранившиеся в соборах Московского Кремля. По кавычным прологам, находящимся в ОПИ ГИМ, можно установить источники, откуда справщики брали те или иные тексты. Так, для поучений они использовали сборники «Цветник», «Духовные беседы» Макария Египетского, «Маргарит» Иоанна Златоуста, «Лимонис», «Патерик». Интересно, что они привлекли и такую известную книгу, как «Жития святых» П. Скар-ги (1579), хотя по понятным причинам нигде ее не назвали.
Видимо, материала собрали так много, что на Печатном дворе его использовали для подготовки нескольких изданий, о чем говорится в послесловии к сборнику «Трефологион» (Минее праздничной), выпущенному в Москве в 1637 и 1638 годах параллельно с Прологом. А.С. Зернова считала, что данная книга должна была стать дополнением к печатному Прологу [2, с. 7].
Главной особенностью издания стало то, что все исходные материалы не просто сокращались, но перерабатывались в соответствии с определенной редакционной парадигмой, реализующей важную идеологическую задачу – предоставить читателю максимально полный свод сведений о святых, почитаемых в русской православной церкви. Жития русских святых и подвижников показывали, что христианство развивается на Руси устойчиво, не отклоняясь в ереси. Именно русские святые неизменно выступали и вдохновителями борьбы, и борцами с иноверными врагами.
Вторая цель книги связывалась с прославлением царствующего в Москве государя, подтверждая тем самым право новой династии на престол. Так, в послесловии ко второму изданию Михаил Федорович поставлен в один ряд с «великим царем Константином, матерью его блаженной царицей Еленой и великим князем Владимиром». Затем указано, что Михаил Федорович наследовал «деду своему царю и великому князю всеа Русии Ивану Васильевичу и дяде своему царю и великому князю Федору Ивановичу всеа Русии» [7, 1642, л. 904 об.].
Аналогичные идеологические задачи обозначены в предисловиях и послесловиях к другим старопечатным книгам xVII века. Например, в «Трефологионе» Михаил Федорович назван «скипетроносцом и всея русския земли обдержателем и иныхъ многихъ государствъ обладателем, истинным рачителем божественныхъ дог-матъ и всего богодухновеннаго писания любителем и святыя православныя христи-анския веры крепким хранителем» [5, л. 711]. В послесловии к «Октоиху» он именуется «изрядным наследником великия державы», заслуженно занимающим «престол благоверных и христолюбивых великих государей деда своего, царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси и дяди своего государя, царя и великого князя Федора Иоанновича, который держит скипетры великих государств на востоце и на севере» [5, л. 474 об.]. Аналогичная формула приведена и в Каноннике, вышедшем практически одновременно с Прологом: Михаил Федорович «последует древни благочестивым царем, великому царю Константину и великому князю Владимиру, и деду своему царю Ивану Васильевичу всеа русии и дяде своему царю Федору Ивановичу всеа Русии» [3, л. 488 об.]. Проведенное нами сопоставление позволяет говорить о единстве позиции составителей старопечатных книг, обозначенной выше.
Идеологическая установка реализуется и в постоянном увеличении числа статей о русских святых. Во второе издание 1642 года добавили более 40 новых текстов (только во второй том вошло 24 новых сказания). В каждое из последующих изданий вводилось до 50 новых текстов.
Одновременно исключались тексты, которые составители считали трудными для восприятия или малоинтересными русскому читателю. Прежде всего это касалось рассказов о западнохристианских святых – Мартине Римском, Исакии Кипрском, Дорофее Тирском, Павле Фивейском, Ипатии Гангрьском, Феодорите Киринейском и многих других; всего убрали более 40 из каждой книги, а также более 20 поучений на разные темы. Например, перевод «Слова о терпении Кира» Иоанна Лествичника заменили кратким пересказом, лишенным какой-либо архаизации. В результате число русских добавлений постепенно стало преобладать над другими материалами.
Однако содержание старопечатного Пролога нельзя рассматривать исключительно как механическое соединение множества литературных, фольклорных, исторических текстов в одну большую книгу или как собрание систематизированных сведений о христианских святых. Каждая часть Пролога обладает собственной четкой композицией и художественным содержанием. Все истории построены по нескольким общим схемам, которые можно условно обозначить как пересказ известного текста, одноэпизодный рассказ, переложение легенды или сказочного сюжета, сообщение о событии, притча, тематическое поучение. Сопоставление печатного и рукописного Прологов показывает, что Печатный Пролог стал новой и самостоятельной разновидностью данного памятника.
В отличие от рукописных редакций, каждый отдельный текст является частью комплекса, приуроченного к определенному дню года. В него входило от 4 до 12 текстов, не просто подобранных для поочередного прочтения, но создающих единый и цельный образ. В качестве примера приведем статьи, помещенные под 5 сентября.
-
1. О Захарии иерусалимском, заколотом по приказу Ирода за укрытие ребенка от казни.
-
2. Об Авдии Ергольском, замученном волхвами.
-
3. О Фиваиде и Флавии, злодейски убитых.
-
4. Об убиении князя Глеба его братом Святополком.
-
5– 6. О Раисе и Сарвиле (текстов нет).
-
7. Об Урване, Феодоре, Медимне и прочих 80-ти (текстов нет).
-
8. О Петре Афирском.
-
9. Об Авиде Персидском, которого принуждали поклоняться солнцу и огню.
-
10. О юноше, сковавшем крест некоему патрикию.
-
11. Поучение о покаянии.
-
12. Поучение к немилостивым князьям.
Содержание приведенных выше статей достаточно разнообразно и неоднородно. Объем их также различный: краткие заметки из одной-двух фраз (№ 5–7), небольшие рассказы, примерно в половину страницы, пространные тексты, занимающие несколько листов. Единство текстов подчеркивается общей интонацией и употреблением одних и тех же оборотов: «сии бяху из Антиохии» (л. 8), «Сей бяху из Андрияна, града македонскаго»(л. 8 об), в «Кирстей стране», убийство Глеба происходит «у града Смоленска, на Смядыне» [7, 1659, л. 8].
Прежде всего отметим единообразие хронотопа. Место действия каждого рассказа обозначено географически точно, в результате чего перед читателем разворачивается панорама огромной земли, на которой живут и передвигаются герои: «изшед от своего села и идяше во ино село» [7, 1659, л. 6 об]. Герои заняты самыми обыкновенными делами, показанными весьма детально: «пасяше овец», «седящу в притворе церковнем и чтущу книгу» (л. 8 об). Отметим, что к пятому изданию дневной комплекс наконец приобрел и единообразную композицию: краткие памяти убрали, а русские статьи переместили в конец, чтобы они завершали ряд рассказов о событиях мировой истории и культуры. Налицо стремление к внутренней организации, проявившееся и на внесюжетном уровне. Каждый текст завершается поучением, а весь дневной комплекс – особой концовкой моралистического характера: «Не соблажняй, брате, своего ума, место убо никого же спасет, но дела» (22 апреля). Уже в четвертом издании 1661 года такие концовки завершают почти каждую статью.
Отметим, что больше всего увеличивалось число статей, посвященных московским князьям, святым, историческим лицам и событиям. Это Димитрий Донской [7, 1659, л. 97], великий князь Иван, сын Данилы (1660, л. 558), великий князь Василий, сын Василиев [7, 1659, л. 479], «благоверный и великий князь Василий, сын Великого князя Ивана иже и Новград смири и живущих в нем управи» [7, 1659, л. 479], царь Иван «содержатель руския земли, иже от Августа римския ке- саря корене исшедша» [7, 1660, л. 389] и Димитрий Угличский [7, 1660, л. 390 об.]. Рассказы о Гурии Казанском и Варсонофии Тверском (4 октября), об избавлении Руси от ляхов (22 октября) и от Ахмата Ордынского (23 июня), Иакове Боровицком (23 октября), Филиппе Московском (9 июля), перенесении в Москву ризы пресвятой Богородицы – дара шаха Аббаса (10 июля), о смерти великого князя Василия Московского (2 августа). Состав персонажей показывает, что данная установка постепенно конкретизировалась, о чем четко говорится в послесловии: «всепролетное писание всех святых отец и святых жен, …и русския земли великих святителей и чюдотворцев московских» [7, 1685, л. 543].
Одновременно продолжалась и редакторская правка. Статья о царевиче Дмитрии составлена на основе текста из Минеи Милютина [1, с. 83], которую составители Пролога полностью переработали, подчеркивая то, что соответствовало цели издания. Так, тщательно обосновывается необходимость перенесения мощей царевича в Москву: «да положатся со отцем его и дедом и с прочими прародители его, с благочестивыми цари и великими князи, на устрашение и на посрамление и иным многим злым и наветным человеком, смущающим державу отечествия его, и тако же ложно нарицающимся , яко же и выше реченный он расстрига именем его царева сына Дмитрия» [7, 1660, л. 390].
Смысл статьи подчеркивает и помещенная в конце дня речь Шуйского о значении поминовения нового святого как символа идеи именно московской государственности: «Да не забвена будет толикая благодать Божия на таковем неповинном страдальце и в вечныя роды на славу же и хвалу всему отечеству его и сродству и на утверждение матери градов Москве» [7, 1660, л. 392].
В четвертое издание (1661–1662) добавили еще 38 статей, в частности, статьи об Иосифе Волоцком (9 сентября), Ефросинии Суздальской (25 сентября), о князе Михаиле Тверском (22 ноября), Данииле Московском (4 марта), о Евдокии, супруге Дмитрия Донского (7 июля), о разорении Рязани Батыем (28 июля). Их источниками послужили тексты из Великих минеи четьих, Минеи Иоанна Милютина, причем все исходные тексты также полностью перерабатывались. Все статьи невелики по объему, но отличаются динамичным сюжетом.
Продолжалась и замена переводных текстов. Впервые в этом издании появились комплексы текстов, посвященные одному святому; житие Николая Мирликий-ского заменили 15 небольшими повестями об отдельных чудесах и двумя похвальными словами (6 и 9 мая), а также рассказ про Алексия человека Божия, переведенный Арсением Греком (17 марта). Всего заменили новыми переводами 17 греческих слов и житий [8, с. 8–10]. Наиболее пространные тексты, например, сказания об Алексии человеке Божием (17 марта), Иоанне Златоусте (13 ноября) и Феодоре Стратилате (8 июня) заменялись новыми переводами. Сосредоточенность на одном персонаже позволяла сохранить динамику и усилить изобразительную сторону его описания.
Интересно, что два рассказа (об Алексии человеке Божьем и Феодоре Стра-тилате), взятые из «Анфологиона», представляют собой почти дословный пересказ статей из «Житий святых» П. Скарги. Внимание к этим святым понятно, они со-именны царю Алексею Михайловичу и его сыновьям Алексею и Федору. Особое отношение к ним проявляется и в том, что из текста книги не исключили ранее составленные рассказы о данных персонажах.
Пятое издание (1675–1677) стало самым полным по отношению ко всем предшествующим. В каждый из томов внесли более 26 новых текстов: например, статьи о Ниле Столбенском (7 декабря), Феодоре Писанном (27 декабря), Ионе Московском (15 июня), о явлении Тихвинской иконы пресвятой Богородицы (26 июня), написанные специально. Так, статья о Тихвинской иконе составлена ико- нописцем Иродионом Сергеевым на основе устных сказаний, на что указывает традиционная концовка: «Ни пером описати, ни язык изглаголати», влияние фольклора заметно и в статье о Кассиане Римлянине, впервые появившейся в данном издании (28 февраля).
Одновременно с упорядочением композиционной структуры составители произвели сквозную языковую правку всего текста. Прежде всего исключали имевшиеся в текстах архаизмы, а при отсутствии аналога давали переводы греческих терминов. Например, такие слова и обороты, как «челядь», «задушие», «несть моч-но», заменены соответственно на «слуги», «дары», «невозможно». Вместо греческого слова «кумеркарий» появилась «таможня», а вместо «макеларь» – «мясник». Для облегчения понимания неподготовленным читателем исключались и диалектизмы («шелыги» заменено на «прутия», а «тиган» – на «сковорода»). Вместе с тем некоторые архаические формы, например, глаголов сохранялись, в частности, «бяху», «ходиша», «терпеша», чтобы придать всей книге единообразие. Для удобства чтения с листа появилась система предречий: первое слово страницы печаталось в низу предыдущей. Интересно, что в послесловии названы имена составителя книги («составлено Симеоном священноиноком») и одного из переработчиков статей о святых («трудолюбивый Илия жития онех святых изложиша»).
В итоге можно выделить три вида вставок, применявшихся составителями: пояснения имеющихся статей, новые редакции старых текстов и вставки, посвященные современным событиям. Сравнение первых пяти изданий показывает, что в них преобладают вставки первых двух типов, тогда как вставки третьего типа выявляются гораздо реже. Чаще всего такие статьи посвящались злободневным событиям и в последующих изданиях не встречаются. Например, «Слово о втором перенесении мощей митрополита Алексия» или «Благодарственное слово по поводу подавления стрелецкого бунта» печатались многократно, а помещенное в конце шестого издания «Слово против раскольников» патриарха Иоакима [7, 1685, л. 1–17, отд. паг.] в последующих изданиях отсутствует.
Вся работа редакторов подчинялась одной цели – достижению максимальной компактности текста, приведшей к структурному единообразию и жанровой однородности. Текст набран в два столбца, причем использован более мелкий, чем раньше, шрифт, что позволило заполнить практически все пространство страницы. Одновременно убрали пышные заставки, открывавшие каждый месяц, и заголовки, ранее набиравшиеся вязью. Увеличилось количество слов под титлами. В конце книги напечатали подробное «Сословие по алфавиту имен святых и повествований и поучений ради удобнаго желающим ведати обретения [неможно бо вся Памятию кому объяти] когда коего святаго память или патерическое каковое повествование или поучение. Хотяй же уведети таковая да зрит по началному писмени имене или вещи яковыя: и еже в коем месяце и числе обретается». Подобный указатель действительно облегчал пользование изданием.
В шестом (1685), седьмом (1689) и восьмом (1696) изданиях число статей оставалось прежним, но пространные тексты продолжали заменять более компактными. В частности, статью о митрополите Алексии (12 февраля), написанную на основе жития, составленного Пахомием Логофетом, справщик Е. Чудовский заменил собственной краткой повестью. Сократив биографические мотивы, он включил туда подробный рассказ о втором перенесении мощей святого (20 сентября). Продолжалось исключение поучений, заменявшихся повествовательными текстами назидательного характера.
Анализ старопечатных изданий Пролога, выходивших на протяжении xVII века, позволяет сделать некоторые выводы. Первые четыре издания Пролога мож-
Литературоведение но рассматривать как четыре последовательные редакции, в которых реализована общая парадигма работы с текстом, направленная на обработку и приведение к общему знаменателю разнородных материалов. Пятое издание памятника является итоговым, поскольку в нем завершаются изменения, начатые в предыдущих изданиях. Начиная с шестого издания основные усилия справщиков были направлены на закрепление сложившегося комплекса. Постоянная работа над текстом показывает стремление сделать книгу современного звучания. Постепенно уточнялась идеологическая установка, заключавшаяся в прославлении общерусских святых к святым Руси московской, усиливалась структурная и композиционная целостность, реализующая предназначение книги – массовому читателю.
Institute of the World Literature of the Russian Academy of Sciences the department of medieval Slavic literature
Список литературы Дневной комплекс в старопечатном прологе Ф. С. Капица
- Державина О.А. Рукописи, содержащие рассказ о смерти царевича Дмитрия//Записки отдела рукописей ГБЛ. Вып.15. М.: Гос. библиотека им В.И.Ленина, 1959. С. 80-96.
- Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в xVI-xVII веках: Сводный каталог. М.: Гос. библиотека им. В.И.Ленина, 1958. 152 с.
- Канонник. М.: , 14.4.1636.
- Мансветов И.Д. Как у нас правились церковные книги: Материал для истории книжной справы в xVII столетии. М.: , 1883. 63 с.
- Октоих. М.: , 7.5.1631.
- Потребник мирской. М.: , 20.7.1639.
- Пролог. М.: . В тексте указывается год издания и лист.
- Сергий, архимандрит. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. Восточная агиология. М.: , 1875. 202 с.
- Трефологион. М.: , 1.6.1637-21.5.1638.