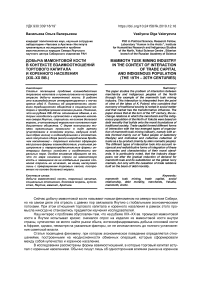Добыча мамонтовой кости в контексте взаимоотношений торгового капитала и коренного населения (XIX-XX вв.)
Автор: Васильева Ольга Валерьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме взаимодействия торгового капитала и промысловиков на примере отрасли добычи мамонтовой кости. В работе это взаимодействие интерпретируется с точки зрения идей К. Поланьи об укорененности экономики традиционного общества в социальной материи и преобразующем влиянии рынка. Показано, что на рубеже XIX-XX вв. отношения обмена, в которых находилось купечество и коренное население севера Якутии, строились на основе долговой морали, учитывающей моральные основания традиционного общества. С двумя возникшими типами организации промысла: в виде артели (участвовали в основном якуты, ведущие оседлый образ жизни) и индивидуального и коллективного попутного сбора (велся инородческим бродячим населением) - торговый капитал сформировал разные формы взаимодействия, учитывая реципрокные и перераспределительные формы интеграции данных хозяйств и особенности моральных норм. Особое внимание обращено на то, что по мере снижения спроса на мамонтовую кость и замещения ее на глобальных рынках слоновой отрасль не исчезает, ее конец наступает лишь с прекращением торговых связей, построенных на основе долговой морали.
Добыча мамонтовой кости, торговый капитал, социальные отношения, долговая мораль, купечество, якутия, мамонт, арктика
Короткий адрес: https://sciup.org/149133912
IDR: 149133912 | УДК: 930:339“18/19” | DOI: 10.24158/fik.2019.12.16
Текст научной статьи Добыча мамонтовой кости в контексте взаимоотношений торгового капитала и коренного населения (XIX-XX вв.)
Сейчас добычу мамонтовой кости называют новым феноменом на северо-востоке Сибири, но на самом деле эта отрасль с давних пор связывала Якутию с глобальными экономическими потоками. При этом отношения торгового капитала и коренного населения в рамках этого промысла никогда не становились предметом изучения исследователей.
Наш интерес к проблеме обусловлен тем, что на рубеже XIX–XX вв. промысел мамонтовой кости в Якутии испытывал кризис: снижался спрос на изделия из мамонтовой кости внутри страны, купечество не могло найти рынки сбыта, интенсифицировалась добыча слоновой кости в Африке, однако, несмотря на указанные факторы, он не исчезал вплоть до полного установления советской власти.
Статья посвящена феномену, при котором экономическое поведение определяется отношениями, построенными на неоднозначности обменных операций, которые сформировали между собой купечество и коренное население.
В исследовании рассмотрены формы взаимоотношений, в которые торговый капитал вступал с коренным населением. Обычно пишут лишь об одностороннем влиянии рынка на коренное население, однако представляется, что это были именно взаимоотношения. И особенности данных взаимоотношений приводили к тому, что, несмотря на снижение доходности, промысел мамонтовой кости продолжал существовать вопреки логике рационального рыночного поведения.
Теоретическая и практическая значимость изучения вопроса связана с необходимостью детального понимания последствий глобализации экономики для различных обществ, в том числе для коренных малочисленных народов Севера, экономическое поведение которых и в постсоветское время зачастую продиктовано неоднозначностью смыслов обменных операций.
Методологическая рамка
В статье освоение северо-востока России рассматривается как процесс распространения капиталистической системы в рамках мир-системного анализа, развиваемого школами Ф. Броделя [1], И. Валлерстайна [2].
Как известно, особенностью мир-системного анализа является взгляд на капитализм как на неоднородную мировую систему, развивающуюся через эксплуатацию центром (развитыми странами) периферии (отсталых стран). При этом экономика территорий и стран, развивающихся в рамках периферийного капитализма, ориентирована на экспорт и обслуживает интересы центра. Российское государство в рамках данной системы формировалось в качестве одной из по-лупериферийных стран, а ее особенностью стало соединение периферийного развития капитализма с сильным бюрократическим государством.
Якутия оказалась в этой системе одной из эксплуатируемых территорий. Дело в том, что в рамках отдельных государств процесс капиталистического накопления может происходить даже за счет докапиталистических форм эксплуатации. Иными словами, на европейских рынках российское государство выступало в качестве капиталиста, а в рамках своей территории усиливало «нерыночную» интеграцию старых и новых регионов в форме крепостного права и имперских податных систем [3].
Здесь обращает на себя внимание перевод одного смысла обмена (рынок) в другой (дань) как механизм создания рыночного продукта и рыночной ценности, а также возникает вопрос о перформативности обменных операций не только на внешнем рынке, но и во взаимодействии с инородцами.
Так как вовлечение новых трудовых ресурсов и их последующая эксплуатация в рамках вышеуказанной модели перформативного перевода дани в рынок происходили во многом благодаря активности торгового капитала, в статье внимание сфокусировано на взаимодействии торгового капитала и промысловиков. Можно предположить, что также имелись подобные переводы одного смысла обменных операций в другой.
Основатель теории перформативности экономики М. Каллон писал, что экономика перформативна, поскольку обусловлена знаниями в данной области. Он подчеркивал созидательную, а не описательную силу знаний [4]. Применяя его идеи к анализу обменных операций между купечеством и промысловиками на Севере, можно также прийти к выводу об их неоднозначности в понимании каждой из сторон: то, что является товарной торговлей для одних, может быть обменом дарами для других.
Здесь уместно вспомнить тезис К. Поланьи о том, что ни одно общество, кроме того, которое укоренено в рынке, не детерминируется экономической системой. Он пишет об укорененности экономического действия традиционного общества в социальной материи, имея в виду институциональное оформление экономических процессов. Примерами институционального оформления служат как знания, так и моральные нормы, следование которым пронизывает многие хозяйственные действия [5]. В свою очередь последние зависят от того, каким способом хозяйства обретают внутреннее единство и стабильность. Это достигается сочетанием очень немногих способов связи, которые можно назвать формами интеграции.
На эмпирическом уровне такими основными способами связи являются реципрокность, перераспределение и обмен. Реципрокность обозначает перемещения между соответствующими точками в симметричных группах; перераспределение представляет собой акты «стягивания» товаров центром с их последующим перемещением из центра; под обменом подразумеваются встречные перемещения из рук в руки в условиях рыночной системы. Следовательно, реципрок-ность предполагает наличие симметрично расположенных групп; перераспределение зависит от существования в группе определенной степени централизованности; обмен, чтобы порождать интеграцию, предполагает наличие системы ценообразующих рынков [6].
К. Поланьи считает, что для обществ традиционного типа характерны первые два вида связей, для рыночного – третьи. И каждому из них свойственны свои моральные нормы.
Значение торгового капитала в освоении Сибири и Севера
Еще М.Н. Покровский указывал на значительную роль торгового капитала в формировании российского государства как в части его перерождения из феодального государства в бюрократическую монархию, так и в плане расширения его территории [7].
Действительно, все продвижение русских людей на восток в XII в. и соответствующее расширение территории государства было обусловлено поиском и добычей «мягкой рухляди» – ценных мехов, которые поставлялись на экспорт. Коренное население Сибири по мере продвижения на восток русской власти облагалось натуральной податью мехом – так называемым ясаком. Таким образом, колонизаторская политика государства была тесно связана с экспортом мехов, рынок которых обрел в начале XVII в. черты глобального. Из всех добытых шкур до 3/4 шли за рубеж. Русской казне соболь давал тогда до трети ее доходов [8, с. 92].
Освоение Сибири происходило за счет взаимодействия государства и торгового капитала. Главным мотивом торгового капитала являлась прибыль, а чтобы ее обеспечить, необходимо было поддерживать хорошие отношения с государством, целью которого были власть, пополнение казны, территориальные завоевания. При этом в силу различных обстоятельств система торговли носила характер ярмарки вплоть до начала XX в. Ф. Бродель пишет, что ярмарки пережили свой расцвет в Европе в XVI в., позже их расцвет характерен лишь для отсталых областей с традиционной экономикой. Поэтому перечисление активно действующих ярмарок XVIII–XIX вв. равнозначно указанию на маргинальные регионы мировой экономики [9].
Роль купцов была чрезвычайно велика в силу не только их профессиональных функций, но и вследствие того, что они являлись представителями нового института – рыночных отношений, под влиянием которого в течение XVIII в. складывалось якутское купечество. Происходили значительные изменения в обществе коренных малочисленных народов Севера. По мере втягивания практически всего населения края в систему меновой торговли пушниной на товары широкого потребления происходили значительные изменения в хозяйственной деятельности инородцев, такие как смена значимости «мясной и пушной охоты», увеличение значения оленьего транспорта в связи с необходимостью интенсивных перекочевок во время промысла и транспортировки товара, формирование крупностадного оленеводства. Торговые отношения сказывались на миграционных процессах. Постепенно инородческое население включилось в промысел мамонтовой кости.
Добыча мамонтовой кости
Мамонтовая кость в Якутии до прихода русских в XVII в. не выступала самостоятельно в качестве объекта промысла. Ее использовали как материал для наконечников стрел, копий.
Резьба по кости была развита в России уже в древнем Новгороде. Найденные изделия из нее датируются X–XII вв. н. э. На севере европейской части России изделия из кости были элементом местного крестьянского быта [10], произведения архангельских косторезов упоминаются в литературных произведениях начиная с XIV–XVI вв., в XVIII в. они входят в моду.
По мере продвижения русских на восток сразу же сложился промысел по сбору мамонтовой кости. При этом ресурс мамонтовой кости был ценен как для внутреннего, так и для внешнего рынка: известно, что мамонтовая кость была товаром на экспорт в XVII в.
В Якутии начало активной добычи мамонтового бивня связывается с событиями второй половины XVIII в., когда русский промысловик Иван Ляхов, развернувший деятельность по поиску и сбору мамонтовой кости между устьями Хатанги и Анабара, весной 1770 г. совершил путешествие на север в направлении открытых казаками Яковом Пермяковым и Меркурием Вагиным островов и обнаружил там скопления мамонтовой кости. После возвращения в Якутск Ляхов получил от правительства монопольное право «промышлять мамонтовую кость» на обоих островах, переименованных по указу Екатерины II в Ляховские (Большой и Малый). В конце XVIII столетия на Ляховских островах бивни уже собирали и вывозили на оленях и собаках [11, с. 261]. Кроме того, обследовалось все побережье, где также можно было найти немало обнажившихся из-под земли мамонтовых бивней.
Имеющиеся данные позволяют говорить об устойчивости объемов добычи мамонтовой кости на протяжении XIX–XX вв. Через якутские ярмарки проходило около 1 000 пудов мамонтовой кости (см. табл. 1), хотя в России на протяжении XIX в. спрос на изделия из мамонтовой кости снижается, что приводит к затуханию косторезного промысла, в частности известной холмогорской школы.
Таблица 1 – Мамонтовая кость в ведомости якутской ярмарки [12
|
Год |
Количество, пудов |
Цена за 1 пуд кости |
Сумма, р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1838 |
250 (отборной кости) 250 (обыкновенной кости) |
55 48 |
13 750 12 100 |
|
1839 |
800 |
35 |
28 000 |
|
1840 |
1 310 |
50 |
65 000 |
|
1841 |
1 500 |
46 |
69 000 |
|
1842 |
1 300 |
30 |
39 000 |
|
1843 |
1 500 |
30 |
45 000 |
|
1891 |
1 400 |
26 |
36 200 |
Продолжение таблицы 1
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1895 |
1 500 |
32 |
48 000 |
|
1900 |
1 700 |
25 |
37 500 |
|
1912 |
1 200 |
52–53 |
63 600 |
Первоначально промыслом мамонтовой кости занимались в основном русские промысловики. Государство поощряло промысловиков и торговцев к добыче мамонтовой кости и торговле, которая не являлась предметом подушной подати. В то же время государство вело запретительную политику в отношении торговли пушниной с ясачным населением. Однако по мере снижения доли ясака в пополнении казны государственная политика в сфере торговли сменилась с запретительной на свободную. Это спровоцировало проникновение торгового капитала в местную экономику, в торговлю мамонтовой костью втянулось и инородческое население.
В условиях менового характера торговли приказчики торговых домов и независимые скупщики, осуществлявшие торговую деятельность в северных районах, продавали необходимые местному населению товары почти исключительно за пушнину и кость [13]. В свою очередь зависимость последних от торговли с купечеством возрастала в силу потребности в стрелковом оружии, муке, чае и алкоголе.
Торговый капитал оказывал влияние и на организацию промысла, которая представляет собой сочетание способа добычи и форм трудового соединения лиц, участвующих в промысле. Торговля мамонтовой костью привела к появлению двух разных форм выхода на промысел населения северо-восточной Сибири. В условиях проникновения товарно-денежных отношений на островах сформировалась артельная форма организации промысла (в ней участвовали преимущественно якуты, ведущие, как правило, оседлое хозяйство), а на морском побережье распространился индивидуальный и коллективный попутный сбор мамонтовой кости (в нем участвовало инородческое население, ведущее кочевой образ жизни).
Сущностью первой формы организации промысла было то, что фирма посредством агентов на местах кредитовала промысловиков из числа местного населения необходимыми товарами под залог будущей продукции. Промысловик приобретал у купца все необходимое для промысла, взамен он должен был отдать значительную часть добытого.
Вторая форма организации промысла, как уже сказано, была характерна для инородческого – «бродячего» населения: эвенков, эвенков, юкагиров, населявших территорию северо-восточной части тундры. Упоминания об этом мы находим в трудах В.М. Зензинова [14], А.Ф. Мид-дендорфа [15]. Это был попутный сбор мамонтового бивня в приморской части тундры в весеннелетний сезон.
З.В. Гоголев указывал на то, что торговля пушниной, мамонтовой костью оказала значительное влияние на трансформацию социальных отношений на Севере. Вместо коллективной охоты появились индивидуальная охота и добыча мамонтовой кости, теряли силу старые родовые обычаи, традиционное родовое хозяйственное единство [16, с. 121]. Обратной стороной данного явления стал рост задолженности промысловиков кредитору. По сведениям В.М. Зензинова, промысловики-инородцы находились в состоянии растущего долга, размер которого в начале XX в. достигал огромных размеров. Чем больше становилась задолженность промысловика торговцу, тем сильнее он был прикреплен к кредитору [17]. М.М. Константинов отмечает, что в результате подобной деятельности торговых людей, которая была характерна и для пушного промысла, постепенно все промысловое население входило в состояние неоплаченного долга, который из поколения в поколение возрастал [18, с. 29–31].
В двух этих формах торговый капитал выстраивал разные отношения с коренным населением. Артель, предполагающая правила круговой поруки между ее участниками, сближает ее с крестьянской общиной, которую описал Дж. Скотт. Для нее была характерна этика выживания. Она была ценностно-нормативной основой жизни традиционного мира, где жизнь человека сильно зависела от внешней среды. Взаимовыручка, совместный труд, перераспределение являлись характерными признаками данной этики [19]. В результате в первом случае капитал встраивал логику долговой морали в отношения, основанные на перераспределении, при этом выстраивались своеобразные патрон-клиентские отношения.
Как известно, «основу для патрон-клиентских взаимоотношений составляет обмен между действующими лицами, обладающими неравной властью и статусами: патрон, ведущий и более могущественный участник этих взаимоотношений, предлагает свою защиту и обеспечивает доступ к дефицитным ресурсам (в данном случае к продовольственным товарам) менее могущественным участникам – зависящим от него клиентам. Клиенты, в свою очередь, обеспечивают поддержку патрону и предоставляют ему разного рода ценности и услуги» [20]. При этом патроны и клиенты взаимозависимы, и возможности их влияния друг на друга порой принимают ситуативный характер: клиенты имеют возможность вынудить патрона действовать в их интересах.
В этой ситуации интересно, что по мере снижения спроса на мамонтовую кость промысел не прекращался. Как указывает В.М. Зензинов, нельзя было сказать, что добыча мамонтовой кости была выгодна как для промысловиков, так и для купцов. Он приводит следующие данные: в среднем мамонтовая кость обходилась купцу в 50 р. за пуд, продавалась же в Якутске лишь немного дороже, 52–55 р. за пуд, т. е. почти не оправдывались расходы по перевозке [21, с. 70]. При этом он считает, что «обе стороны вынужденно продолжают данный промысел, прежде всего из-за кабальной задолженности северного промысловика местному купечеству. Промышленнику нечем расплатиться, кроме кости, за забранный в долг товар, купцам нечем, кроме кости, взыскать с них долг. Так и тянется этот промысел, ни для кого, в сущности, в Якутской области не нужный» [22, с. 992].
Как можно заметить, поведение экономических субъектов в данном случае определялось не получением прибыли, но особой долговой моралью. Следовательно, объяснение этого поведения стоит искать также не в принципах рациональной максимизации полезности, а в моральных законах.
Проблемы моральной экономики были рассмотрены Дж. Скоттом и изложены в созданной им теории этики выживания крестьянства [23]. Если исходить из данной теоретической конструкции, то в случае, когда выживание или нормальная жизнедеятельность человека оказывается под угрозой, к агентам, которые в этот момент обладают относительно избыточными ресурсами, выдвигаются требования о помощи. При этом требование поддержки слабых транслируется по вертикали социальных структур. Такие требования могут оформляться в виде напоминаний о взаимных обязательствах, обусловленных долговыми отношениями.
Во взаимоотношениях с бродячими инородцами торговый капитал имел несколько иную логику. В силу миграционной подвижности данной категории населения для торговца важным было принуждение к постоянным персонализированным торговым отношениям. Чтобы добиться регулярности сделок, пытались прибегнуть к различным способам. Одним из них, как нам кажется, и стали долговые обязательства.
Как известно, дарение и реципрокные отношения были моральной основой традиционного общества коренных народов Сибири. Ситуация долженствования на основе обмена дарами была рассмотрена торговыми людьми, купечеством как возможность установления постоянных форм сотрудничества. Едва ли торговцы надеялись на возвращение всех этих долгов, но это было способом принудить представителей коренного населения к работе именно с конкретным торговцем.
Таким образом, участие обеих сторон в организации отрасли добычи и торговли мамонтовой костью является результатом сочетания моральных норм рыночной, реципрокной и перераспределительной форм интеграции.
Промысел мамонтовой кости в Якутии в начале XX в. позволяет обнаружить наличие морали за экономической деятельностью. Это объясняет, что даже в условиях, когда промысел и торговля ископаемой мамонтовой костью становятся маловыгодными для купечества, промысел не исчезает, а остается в качестве одного из элементов системы эксплуатации коренного населения.
На ход истории повлияли лишь революционные события 1917 г. В связи с политическими событиями большинство российских банков прекратили свою деятельность, что привело к заморозке счетов торгового капитала Сибири. Позднее имущество торговых домов, занимавшихся торговлей мехами и мамонтовой костью, было национализировано.
Политические изменения в России, наложившиеся на процессы интенсификации добычи слоновой кости в Африке, привели к тому, что в 1920-е гг., несмотря на продолжение промысла различными кооперативами (в 1926–1927 гг.), было добыто 6 148 кг мамонтовой кости [24, с. 121]. В условиях разрыва прежних связей, основанных на долговой морали, мамонтовая кость постепенно вытесняется с мирового рынка современной слоновой костью, и промысел в Якутии затухает.
В связи с этим возникает вопрос, что сыграло бо́льшую роль в прекращении промысла мамонтовой кости в советский период: изменение мировой конъюнктуры или смена формата экономических и социальных связей, обусловленных дальнейшим развитием государства на иных некапиталистических началах? Этот вопрос остается открытым, но его решение представляется важным для междисциплинарного диалога истории и экономической социологии.
В статье на примере промысла ископаемой мамонтовой кости кратко очерчен процесс развития капиталистических отношений на Крайнем Севере и обозначены его особенности, основанные на сущности социальных отношений в среде коренных народов и их влиянии на формы взаимоотношений с торговым капиталом.
В российском научном дискурсе отношения, сложившиеся между купечеством и коренным населением, редко характеризовались как капиталистические в силу менового характера тор- говли. В статье продемонстрировано, что торговым капиталом использовались особенности моральных норм обществ, построенных на реципрокной и перераспределительной формах интеграции экономики.
Если мы рассматриваем север России как колонию, а ее включение в глобальную капиталистическую систему определяем как включение в статусе периферии, следует объяснять использование докапиталистических форм эксплуатации населения особенностями развития капиталистической системы, а именно неравномерной концентрацией капитала в пользу центра и возможностью включения архаичных форм торговли в глобальные капиталистические цепочки. Смена смыслов обменных отношений российского государства, которое являлось капиталистом на внешнем рынке и эксплуататором внутри своих границ, повторяется и на более низком уровне. Так, купечество, которое было капиталистом на ярмарках, в отношениях с коренным населением Севера оказывалось чем-то другим. В игру вступала и моральная экономика суровых условий Севера, построенная на реципрокных и распределительных системах интеграции хозяйств.
Это позволяет еще раз поставить под сомнение различие между современными и традиционными экономиками. Отсталость последних, напротив, надо трактовать как продукт взаимодействия периферии с мировой капиталистической системой.
Ссылки:
Список литературы Добыча мамонтовой кости в контексте взаимоотношений торгового капитала и коренного населения (XIX-XX вв.)
- Бродель Ф. Динамика капитализма: пер. с фр. Смоленск, 1993. 128 с
- Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация / пер. с англ. К.А. Фурсова. Изд. 2-е, испр. М., 2018. 298 с
- Ssorin-Chaikov N. Bear Skins and Macaroni: The Social Life of Things at the Margins of a Siberian State Collective // The Vanishing Rouble: Barter Networks and Non-Monetary Transactions in Post-Soviet Societies / ed. by P. Seabright. Cambridge, UK, 2001. P. 345-361
- Юдин Г.Б. Перформативность в действии: экономика качеств М. Каллона как парадигма социологического анализа рынков // Журнал социологии и социальной антропологии. 2008. Т. XI, № 4. С. 47-58
- "Великая трансформация" Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее / под общ. ред. Р.М. Нуреева. М., 2006. 406 с
- "Великая трансформация" Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее / под общ. ред. Р.М. Нуреева. М., 2006. 406 с
- Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке. М., 1932. 512 с
- Савченко А.Б., Трейвиш А.И. Историко-географические особенности освоения северных и арктических территорий России в XVII-XIX вв. // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2017. № 3. С. 90-102.
- DOI: 10.7868/s0373244417030082
- Бродель Ф. Динамика капитализма: пер. с фр. Смоленск, 1993. 128 с
- Лебедев С.В., Максимович В.Ф. Русский Север: исторические и этнокультурные особенности формирования российского региона // Человек и культура. 2015. № 6. С. 28-63.
- DOI: 10.7256/2409-8744.2015.6.15788
- Миддендорф А.Ф. Путешествие на север и восток Сибири. Север и восток Сибири в естественно-историческом отношении. Ч. 1, вып. 2, отд. 2. Орография и геогнозия. СПб., 1861. 352 с
- Башарин Г.П. История аграрных отношений в Якутии: в 2 т. / предисл. В.Н. Иванова; примеч., коммент. Н.Г. Башариной, Г.В. Башариной; отв. ред. В.Н. Иванов. М., 2003. Т. II. Аграрный кризис и аграрное движение в конце XVIII - первой трети XIX в. С. 81-83.
- Зензинов В.М. Добыча мамонтовой кости на Новосибирских островах // Природа. 1915. № 7-8. С. 979-992.
- Зензинов В.М. Очерки торговли на севере Якутии. М., 1916. 97 с
- Зензинов В.М. В гостях у юкагиров // Этнографическое обозрение. 1914. № 1-2
- Гоголев З.В. Социально-экономическое развитие Якутии (1917 - июнь 1941 г.). Новосибирск, 1972. 259 с
- Зензинов В.М. Очерки торговли на севере Якутии. М., 1916. 97 с
- Константинов М.М. Пушной промысел и пушная торговля в Якутском крае. Иркутск, 1921. 94 с
- Скотт Дж. Моральная экономика деревни // Неформальная экономика. Россия и мир / под ред. Т. Шанина. М., 1999. С. 541-544
- Ковалев Е. Взаимосвязи типа "патрон - клиент" в российской экономике // Там же. С. 128-137
- Зензинов В.М. Очерки торговли на севере Якутии. М., 1916. С. 70.
- Зензинов В.М. Добыча мамонтовой кости на Новосибирских островах // Природа. 1915. № 7-8. С. С. 992.
- Скотт Дж. Моральная экономика деревни // Неформальная экономика. Россия и мир / под ред. Т. Шанина. М., 1999. С. 541-544
- Гоголев З.В. Социально-экономическое развитие Якутии (1917 - июнь 1941 г.). Новосибирск, 1972. С. 121.