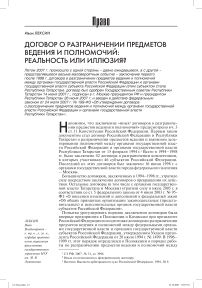Договор о разграничении предметов ведения и полномочий: реальность или иллюзия?
Автор: Лексин Иван Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 12, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170164059
IDR: 170164059
Текст статьи Договор о разграничении предметов ведения и полномочий: реальность или иллюзия?
доГовор о разГраничении предметов ведения и полномочий: реальность или иллюзия?
Летом 2007 г. произошло с одной стороны – давно ожидавшееся, а с другой – представлявшееся весьма маловероятным событие – заключение первого после 1998 г. договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъекта Российской Федерации (этим субъектом стала Республика Татарстан). договор был одобрен Государственным советом Республики Татарстан 14 июня 2007 г., подписан в г. Москве президентом РФ и президентом Республики Татарстан 26 июня 2007 г. и введен в действие федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 199-ФЗ «Об утверждении договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Татарстан» 1 .
н апомним, что заключение «иных2 договоров о разграничении предметов ведения и полномочий» предусмотрено в ч. 3 ст. 11 Конституции Р-оссийской Федерации. Первым таким документом стал договор Р-оссийской Федерации и Р-еспублики Татарстан о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Р-оссийской Федерации и органами государственной власти Р-еспублики Татарстан от 15 февраля 1994 г.3 Всего в 1994–1998 гг. было заключено 42 договора о разграничении компетенции, в которых участвовало 46 субъектов Р-оссийской Федерации. Последний из этих договоров был заключен 16 июня 1998 г. с органами государственной власти города федерального значения – Москвы.
Б-ольшинство договоров, заключенных в 1994–1998 гг., утратило силу посредством заключения договоров о прекращении их действия. Остальные договоры (в том числе с органами государственной власти Татарстана и Москвы) утратили силу в июле 2005 г. в соответствии со ст. 5 федерального закона от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации».
ЛеКСИН Иван Владимирович – к. юр. н., к. эк. н., кафедра правовых основ управления факультета государственн ого управления МГУ им. М. В.
Ломоносова
Попытка урегулировать порядок заключения договоров была впервые предпринята в Положении о Комиссии при президенте Р-оссийской Федерации по подготовке договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации, утвержденном Указом президента Р-оссийской Федерации от 20 июля 1994 г. № 1499. В 1996– 1999 гг. этот порядок определялся в Положении о порядке работы по разграничению предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации и о взаимной передаче осуществления части своих полномочий федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Р-оссийской Федерации от 12 марта 1996 г., затем – в федеральном законе от 24 июня 1999 г. (20.05.2002 в закон были внесены изменения) № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Р-оссийской Федерации и органами государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации», а с 2003 г. – федеральным законом от 6 октября 1999 г. (в настоящее время действует в ред. от 21.07.2007) № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации».
Таким образом, на основании федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Р-оссийской Федерации и органами государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации» не было заключено ни одного договора, а договор 2007 г. является первым и на данный момент единственным договором, заключенным в порядке, предусмотренным федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации» и вообще первым и единственным договором, заключенным в соответствии с установленной в федеральном законе процедурой .
Существующий порядок заключения «федерально-региональных» договоров был установлен после заявления президента Р-Ф о необходимости заключения договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Р-оссийской Федерации и Ч-еченской республики, который бы предоставил последней широкую автономию и «позволил республике развиваться полнокровно, эффективно, позволил бы обеспечить интересы жителей республики». Однако это заявление так и осталось нереализо-ванным1.
В соответствии с п. 3 ст. 26.7 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации» подготовка проекта договора осуществляется федеральными органами государственной власти и исполнительными органами государственной власти субъекта Федерации. Порядок такой подготовки определяется соответственно президентом Р-Ф и высшим должностным лицом субъекта Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации). Согласованный проект договора согласно п. 4 ст. 26.7 названного федерального закона вначале представляется для одобрения в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Федерации названным должностным лицом субъекта Федерации. Р-ешение об одобрении или отклонении принимается в форме постановления большинством голосов от установленного числа депутатов указанного органа. О результатах рассмотрения проекта договора названное должностное лицо субъекта Федерации сообщает президенту Р-Ф. В случае внесения изменений и (или) дополнений в одобренный проект договора или отклонения его отдельных положений проект договора подлежит повторному предварительному согласованию и одобрению в указанном порядке. договор подписывается президентом Р-Ф и названным должностным лицом субъекта Федерации, после чего президент Р-Ф в течение десяти дней вносит в Государственную думу проект федерального закона об утверждении договора. Согласно п. 9 ст. 26.7 названного федерального закона договор вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона о его утверждении, если этим федеральным законом не установлено иное.
Необходимо подчеркнуть, что названный федеральный закон не предусматривает принятия субъектом Федерации закона о договоре о разграничении предметов ведения и полномочий. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Федерации лишь одобряет проект договора до его подписания уполномоченными лицами, а не утверждает и не ратифицирует договор. Это обстоятельство определяется единством Р-оссийской Федерации и единством правовой системы Р-оссийской Федерации. Последовательное утверждение (ратификация) договора обеими сторонами договора означало бы возможность принятия решения, распространяющегося на конкретную территорию, по одному и тому же поводу двумя различными субъектами права независимо друг от друга, то есть противоречило бы принципу суверенитета федеративного государства. Принятие закона субъекта Федерации о договоре в принципе можно рассматривать как допустимую инициативу. Однако данная инициатива не может иметь юридического значения и не может влиять на уровень юридической силы договора.
Требования к содержанию договоров о разграничении предметов ведения и полномочий установлены в п. 1 ст. 26.7 названного федерального закона. Согласно ему в договоре о разграничении предметов ведения и полномочий «устанавливается перечень полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъекта Р-оссийской Федерации, разграничение которых производится иначе, чем это установлено федеральными законами и законами субъекта Р-оссийской Федерации, определяются условия и порядок осуществления этих полномочий, конкретные права и обязанности сторон, срок действия договора о разграничении полномочий и порядок продления данного срока, а также основания и порядок досрочного расторжения договора».
Однако ряд важных вопросов, касающихся содержания договоров, остался нерешенным.
Во-первых, реализация принципа верховенства Конституции Р-Ф и федеральных законов на всей территории Р-оссийскойФедерациинеоставляет места для договорного разграничения предме- тов ведения между органами государственной власти Р-оссийской Федерации и субъектов Федерации. Данная позиция фактически подтверждена в федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации». Положения ст. 26.7 последнего (специально посвященной рассматриваемым договорам) вообще не содержит упоминания о предметах ведения. Согласно названной статье в документах, имеющих форму договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Р-оссийской Федерации и субъектов Федерации, устанавливается лишь разграничение полномочий, хотя в п. 5 ст. 1 названного федерального закона (озаглавленной как «Принципы деятельности органов государственной власти субъекта Р-оссийской Федерации») воспроизводится положение ч. 3 ст. 11 Конституции Р-Ф: «Р-азграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Р-оссийской Федерации и органами государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации осуществляется Конституцией Р-оссийской Федерации, федеративным договором и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий…» Однако на практике на основе названного федерального закона договорами могут разграничиваться только полномочия, но не предметы ведения.
В договоре должен устанавливаться перечень полномочий, «разграничение которых производится иначе, чем это установлено федеральными законами и законами субъекта Р-оссийской Федерации». Но поскольку полномочия федерального собрания по осуществлению законотворческой деятельности установлены Конституцией Р-оссийской Федерации, а не федеральными законами, федеральная законодательная компетенция не может являться предметом договора. Следовательно, теоретически в договоре могут определяться полномочия только президента Р-Ф и органов исполнительной власти. При этом следует учитывать следующие обстоятельства:
– так как основные полномочия президента Р-Ф изначально закреплены в Конституции Р-Ф, их перераспределение не может быть предметом договора даже в том случае, если они перечисляются либо конкретизируются в федеральных законах (тем более что такая конкретизация, как правило, осуществляется применительно к отдельным предметам ведения Р-оссийской Федерации, установленным в Конституции Р-Ф либо применительно к руководству конкретными органами власти);
– то же относится к полномочиям правительства Р-Ф, установленным в Конституции Р-Ф и в федеральном конституционном законе от 17 декабря 1997 г. (действует в ред. от 02.03.2007) № 2-ФКЗ «О правительстве Р-оссийской Федерации»;
– большинство федеральных законов по предметам совместного ведения, в которых говорится о компетенции президента Р-Ф и правительства Р-Ф, перечисляют не их полномочия, а органы государственной власти, которые отвечают за данную сферу деятельности, упоминая среди них президента Р-Ф, правительство Р-Ф, иные федеральные органы государственной власти, а также региональные органы государственной власти;
– ряд полномочий президента Р-Ф и правительства Р-Ф, установленных федеральными законами, по своим объективным характеристикам не может быть осуществлен в отдельном субъекте Федерации, либо с достаточно степенью очевидности относится к исключительной компетенции федерального уровня государственной власти и потому не может быть передан субъектам Федерации.
Итак, предметом договора может быть ничтожно малая часть полномочий президента Р-Ф и правительства Р-Ф, установленных в федеральных законах. Причем даже в этой части вопросы, касающиеся разграничения компетенции, как правило, могут быть урегулированы не договором, а актами президента Р-Ф и правительства Р-Ф. Вопросы же компетенции отраслевых (функциональных) органов исполнительной власти целесообразнее урегулировать не договорами, а соглашениями, предусмотренными в ст. 78 Конституции Р-Ф. При этом нужно принять во внимание, что согласно п. 10 ст. 26.7 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации» срок действия договора не может превышать десять лет, в то время как для соглашения предел срока действия законом не предусмотрен.
Из сказанного очевидно, что по сути заключение договора (если таковое будет осуществляться в соответствии с Конституцией Р-Ф и названным Федеральным законом) лишено практической целесообразности и может диктоваться лишь политическими целями .
Р-ассмотрим содержание заключенного в 2007 г. договора с точки зрения соответствия перечисленным требованиям. Ст. 1 договора гласит: «Р-азграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Р-оссийской Федерации и органами государственной власти Р-еспублики Татарстан осуществляется Конституцией Р-оссийской Федерации, Конституцией Республики Татарстан 1 и настоящим договором». Данное положение отчасти дублирует положение ч. 3 ст. 11 Конституции («разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Р-оссийской Федерации и органами государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий»), отчасти противоречит ему. Весьма сомнительно, чтобы разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Р-оссийской Федерации и субъекта Федерации может осуществляться в конституции последнего.
Ст. 2 договора в основном дублирует или конкретизирует положения Конституции Р-оссийской Федерации, названного федерального закона, федерального закона от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Р-оссийской Федерации». В наибольшей мере назначению договора соответствует положение ч. 3 названной статьи: «Р-еспублика Татарстан… заключает соглашения об осуществлении международных, внешнеэкономических связей и осуществляет такие связи с органами государственной власти иностранных государств по согласованию с Министерством иностранных дел Р-оссийской Федерации в порядке, установленном правительством Р-оссийской Федерации» (в общем случае согласно ст. 1 и 8 названного федерального закона от 4 января 1999 г. субъекты Федерации могут осуществлять связи с органами государственной власти иностранных государств с согласия правительства Р-оссийской Федерации).
Не вполне ясно назначение ч. 4 ст. 2 договора («Р-еспублика Татарстан по согласованию с правительством Р-оссийской Федерации оказывает государственную поддержку и содействие соотечественникам в сохранении самобытности, развитии национальной культуры и языка»). Данное положение не расширяет, а ограничивает полномочия органов государственной власти республики: в соответствии со ст. 17 федерального закона 24 мая 1999 г. (действует в ред. от 18.07.2006) № 99-ФЗ «О государственной политике Р-оссийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»1 для осуществления названных действий согласование с правительством Р-оссийской Федерации не требуется.
Не более логичен комментарий к приведенному положению, содержащийся в пояснительной записке к проекту федерального закона об утверждении договора: «Установлено право органов государственной власти республики Татарстан оказывать по согласованию с правительством Р-оссийской Федерации государственную поддержку и содействие соотечественникам». Очевидно, что ч. 4 ст. 2 договора не содержит указаний ни на органы государственной власти, ни на то, что оказание ими поддержки и содействия соотечественникам является для них лишь правом.
Е-ще одно положение, выходящее за пределы «общефедерального» законодательного регулирования, содержится во втором абзаце ч. 5 названной статьи: «Для кандидатур на замещение должности высшего должностного лица Р-еспублики Татарстан, вносимых в порядке, предусмотренном федеральным законом, устанавливается дополнительное требование, предусматривающее владение государственными языками Р-еспублики Татарстан». Однако данная норма, очевидно, имеет весьма косвенное отношение к разграничению компетенции, которому должен быть посвящен договор.
Е-ще менее соответствует предназначению договора формулировка ст. 3: «граждане Р-оссийской Федерации, проживающие на территории Р-еспублики Татарстан, имеют право получать основной документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт гражданина Р-оссийской Федерации), с вкладышем на государственном языке Р-еспублики Татарстан (татарском) и с изображением государственного герба Р-еспублики Татарстан». Во-первых, данное положение устанавливает не полномочия органов государственной власти, а право граждан. Во-вторых, данное право даже не предполагает предоставление дополнительного полномочия органам государственной власти ни Р-оссийской Федерации, ни Р-еспублики Татарстан: вряд ли можно утверждать, что из-за выдачи органами внутренних дел паспортов со вкладышами изменится разграничение компетенции между уровнями власти. В-третьих, возможность изготовления упомянутых вкладышей предусмотрена в Положении о паспорте гражданина Р-оссийской Федерации, утвержденном постановлением правительства от 8 июля 1997 г. № 828 (в настоящее время действует в ред. от 20.12.2006)2.
Не менее странно присутствие в пояснительной записке к проекту федерального закона об утверждении договора следующих слов: «Установлено право органов государственной власти Р-еспублики Татарстан… выдавать гражданам Р-оссийской Федерации, проживающим на территории Р-еспублики Татарстан, общегражданский паспорт гражданина Р-оссийской Федерации с вкладышем на государственном языке Р-еспублики Татарстан (татарском) и с изображением государственного герба Р-еспублики Татарстан (статья 3)». В названной статье вообще не упоминаются органы государственной власти Р-еспублики Татарстан, а квалификация выдачи паспортов как права по меньшей мере некор ректна.
Не подпадает под установление полномочий органов государственной власти, «разграничение которых производится иначе, чем это установлено федеральными законами и законами субъекта Р-оссийской Федерации», и положение ст. 4 договора («Органы государственной власти Р-еспублики Татарстан имеют соответствующее представительство при президенте Р-оссийской Федерации в г. Москве»).
Таким образом созданный документ можно считать очередным примером «дублирующего» нормотворчества, пренебрежения законодательными требованиями и несоблюдения правил юридической техники. В нарушение предписаний федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации» и вопреки своему названию договор не содержит перечня полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъекта Р-оссийской Федерации, разграничение которых производится иначе, чем это установлено федеральными законами и законами субъекта Р-оссийской Федерации. Строго говоря, договор не устанавливает ни одного такого полномочия. Соответственно договор не определяет условия и порядок осуществления этих полномочий. договор также не содержит положений, в которых было бы сформулировано хоть одно конкретное право и конкретная обязанность той или иной стороны договора. Договор не устанавливает ни порядок продления срока своего действия, ни основания и порядок досрочного расторжения договора, отсылая вместо этого к федеральному законодательству («порядок продления действия настоящего договора, а также порядок и основания досрочного прекращения его действия (расторжения) определяются федеральным законом»).
Е-динственное законодательное требование к содержанию договоров о разграничении предметов ведения и полномочий, которое полностью соблюдено в рассматриваемом договоре, – это установление срока его действия (согласно ч. 1 ст. 5 договора он составляет десять лет со дня вступления его в силу), что, очевидно, служит слабым утешением.
Любопытно, что договор был заключен «со второй попытки». В первый раз договор был одобрен Государственным советом Р-еспублики Татарстан 28 октября 2005 г. и подписан президентом Р-Ф и президентом Р-еспублики Татарстан 4 ноября 2006 г. Однако проект федерального закона № 357306-4 об утверждении договора в этой редакции был отклонен Советом Федерации.
Как ни странно, в нынешней редакции договор почти не отличается от варианта 2005–2006 гг. Произведенные корректировки сводятся к двум позициям.
Сначала была несколько изменена преамбула (в ней теперь указывается, что органы государственной власти Р-оссийской Федерации и Р-еспублики Татарстан действуют в соответствии не только с Конституцией Р-оссийской Федерации и Конституцией Р-еспублики Татарстан, но и с федеральными законами и законами Р-еспублики Татарстан). Затем из ст. 2 договора было исключено дублировавшее ч. 1 ст. 66 Конституции Р-оссийской Федерации положение о том, что статус Р-еспублики Татарстан определяется Конституцией Р-оссийской Федерации и Конституцией Р-еспублики Татарстан.
В остальном текст договора остался прежним, хотя в заключениях комитетов Государственной думы и Совета Федерации, правового управления аппарата Совета Федерации отмечались и некоторые другие его недостатки.
Р-ассмотренные обстоятельства приводят к следующим умозаключениям.
Во-первых, пренебрежение юридической техникой по-прежнему остается весьма актуальной проблемой отечественного правотворчества.
Во-вторых, заключенный договор содержит заведомо «неработающие» положения (воспроизводящие или изменяющие формулировки Конституции Р-Ф).
В-третьих, договор является весьма слабым «ограничителем» действия федеральных законов. По объему это очень скромный документ, по своему содержанию он не идет ни в какое сравнение с прежним договором Р-оссийской Федерации и Р-еспублики Татарстан от 15 февраля 1994 г.
В-четвертых, договор вообще почти не содержит положений, имеющих юридического значения.
В-пятых, вопреки своему прямому назначению и названию договор по сути не является договором о разграничении предметов ведения и полномочий. Те немногие его положения, которые имеют самостоятельное юридическое значение, не изменяют разграничения полномочий, установленных федеральными законами и законами Р-еспублики Татарстан.
В-шестых, для Р-еспублики Татарстан новый договор, видимо, имеет существенное политическое значение, отчасти удовлетворяя ее претензии на особые в сравнении с другими регионами отношения с федеральными органами государственной власти.
В-седьмых, необходимо отметить, безусловно, положительное свойство договора: заключен он был в соответствии с процедурой, предусмотренной федеральным законодательством.
С пониманием относясь к опасениям федеральных политиков в отношении договоров о разграничении компетенции, тем не менее хотелось бы выразить пожелание, чтобы такие договоры, если они будут появляться в дальнейшем, были не бутафорией, а имели хоть какое-то практическое значение, коль скоро они задуманы как юридические документы (причем согласно п. 9 ст. ст. 26.7 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Р-оссийской Федерации» имеющие силу федерального закона). К сожалению, в нашей стране форме по-прежнему придается излишнее значение. Как представляется, виновны в этом и политики, и средства массовой информации, и исследователи, а для изменения ситуации требуется прежде всего спокойное отношение к институту конституционно-правового договора. В этом случае с одной стороны – возможно, постепенно прекратится стремление некоторых субъектов Федерации к заключению договора ради договора, а с другой стороны – возможно, другие регионы смогут предложить поле для его практического, непо-литизированного применения.
Список литературы Договор о разграничении предметов ведения и полномочий: реальность или иллюзия?
- СЗ РФ. 2007, № 31. ст. 3996
- Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 1994, № 6
- СЗ РФ. 1999. № 22. Ст. 2670,
- СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031,
- СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3607,
- СЗ РФ. 2006. № 1. Ст. 10,
- СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3420
- СЗ РФ. 1997. № 28. Ст. 3444,
- СЗ РФ. 1998. № 1. Ст. 1, 2004.
- СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 2478,
- СЗ РФ. 1998. № 45. Ст. 4376,
- СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2197,
- СЗ РФ. 2007. № 6. Ст. 680,
- СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1147.