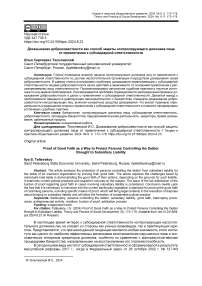Доказывание добросовестности как способ защиты контролирующего должника лица от привлечения к субсидиарной ответственности
Автор: Тельтевской И.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу защиты контролирующих должника лиц от привлечения к субсидиарной ответственности по долгам несостоятельной организации посредством доказывания своей добросовестности. В рамках статьи исследованы проблемы доказывания привлекаемыми к субсидиарной ответственности лицами добросовестности своих действий в зависимости от оснований привлечения к рассматриваемому виду ответственности. Проанализированы актуальная судебная практика и научные источники по изучаемой проблематике. Рассматривается проблема справедливости распределения бремени доказывания добросовестности в делах о привлечении о субсидиарной ответственности. Делается вывод о необходимости введения в действующее законодательство о банкротстве стандарта доказывания добросовестности контролирующих лиц, включая конкретные средства доказывания, что внесет правовую определенность в разрешение споров о привлечении к субсидиарной ответственности и позволит сформировать устойчивую судебную практику.
Банкротство, контролирующие должника лица, субсидиарная ответственность, добросовестность, процедуры банкротства, предпринимательская деятельность, кредиторы, бремя доказывания, арбитражный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/149146065
IDR: 149146065 | УДК: 347.736.5 | DOI: 10.24158/tipor.2024.8.23
Текст научной статьи Доказывание добросовестности как способ защиты контролирующего должника лица от привлечения к субсидиарной ответственности
В настоящее время интерес к субсидиарной ответственности контролирующих несостоятельного должника лиц не угасает со стороны как ученых-правоведов, так и практикующих юристов. Представляется, что причиной данной тенденции является особая значимость этого института как одного из наиболее эффективных механизмов восстановления нарушенных прав и экономических интересов кредиторов должника, особенно по сравнению с малорезультативными процедурами банкротства, направленными на восстановление его платежеспособности.
В сегодняшнем виде институт субсидиарной ответственности сформировался в результате масштабной реформы 2017 г., когда в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) была введена самостоятельная регулирующая его основы глава III.21. Вместе с этим Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) своевременно дал свои разъяснения об особенностях привлечения контролирующих должника лиц (далее – КДЛ) к субсидиарной ответственности в рамках Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 (далее – ПП ВС РФ № 53)2.
В целом реформирование института привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в период с 2017 по 2020 г. шло в явно «прокредиторском» направлении, что отражалось и в практике арбитражных судов. В результате сложилась ситуация, когда лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, как было существенно ограничено в своих процессуальных правах, так и выступало слабозащищенной стороной в контексте материально-правовых оснований привлечения к рассматриваемому виду ответственности. Фактически в законодательстве и правоприменительной практике сложился принцип презумпции виновности не только менеджмента обанкротившегося должника, но и весьма опосредованно связанных с ним лиц, например супругов или наследников таких руководителей. Подобная ситуация привела к резкому возрастанию количества удовлетворенных требований о привлечении к субсидиарной ответственности по сравнению с показателем дореформенного периода. До сих пор, как отмечают многие ученые, вопрос о привлечении родственников к рассматриваемому виду ответственности является «довольно дискуссионным и требующим детального изучения» в связи со сложностью доказывания ими своей невиновности (Рачеева, 2022: 70).
Однако в последнее время, а именно с 2021 г., постепенно складывается новая практика, а также вносятся изменения в законодательство о банкротстве, которые препятствуют массовому привлечению к субсидиарной ответственности посредством перераспределения бремени доказывания между заявителями и ответчиками, усиления дискреционных функций суда, а также с помощью наделения последних новыми процессуальными возможностями. Подтверждением тому служит судебная статистика за последние 3 года. В соответствии с данными, опубликованными на официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2021 г. было подано 6 835 заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, из которых 3 147 были рассмотрены в пользу кредиторов (46 % от поданных); в 2022 г. подано 7 259 заявлений, из которых удовлетворено 3 385 (47); в 2023 г. подано 6 494 заявления, из которых удовлетворено 3 337 (51 % от поданных)3.
Видно, что в последнее время количество поданных заявлений несколько уменьшилось, а число судебных актов об удовлетворении требований заинтересованных лиц о привлечении к субсидиарной ответственности в процентном выражении возросло. Однако также можно заметить, что разница в количестве удовлетворенных заявлений между 2021 и 2023 гг. относительно несущественна и составляет 5 %. Эти сведения сложно сопоставить с данными 2018 и 2019 гг., когда только ежегодный прирост удовлетворенных требований составлял более 10 %.
Таким образом, тенденции в судебной практике, а также безусловная повышенная сложность обособленных споров о субсидиарной ответственности как в рамках дел о банкротстве, так и вне их рамок определяют особую значимость исследований в этой области. Можно констатировать, что законодательство в указанной сфере снова требует обновлений, соответствующих новым вызовам текущей ситуации в экономике. В настоящее время именно правоприменительная практика задает новые тенденции в развитии банкротства в целом и отдельных его институтов в частности, в том числе субсидиарной ответственности контролирующих лих. Именно профессиональный подход отечественных арбитражных судов дает новый взгляд на возможности контролирующих лиц защититься от необоснованных требований кредиторов, без чего не может быть достигнута истинная справедливость при защите прав последних. Нельзя не согласиться с мнением И.В. Сарнакова: «следует помнить, что основная цель института банкротства – соразмерное удовлетворение требований кредиторов посредством установления именно недобросовестного поведения в отношении контролирующих должника лиц» (2023: 112).
Более гуманное разрешение вопроса о допустимости привлечения лица к субсидиарной ответственности является необходимой предпосылкой ведения легальной добросовестной предпринимательской деятельности в установленных законом формах юридических лиц. Однако представляется, что указанные положения должны быть закреплены не только в конкретных судебных актах, но и в законах, что позволит укрепить сформировавшуюся позитивную судебную практику.
В настоящее время концепция субсидиарной ответственности и в теории, и на практике рассматривается через призму категории добросовестности лица, которое считается контролирующим должника. Именно внимательная оценка судом доводов о добросовестности действий контролирующих лиц лежит в основе возможности привлечения их к субсидиарной ответственности.
Одним из ключевых признаков добросовестности менеджмента должника-банкрота при ведении хозяйственной деятельности является экономическая обоснованность (разумность) принятых управленческих решений. При этом нельзя не сказать, что главным подходом при оценке соответствия действий контролирующих лиц критерию разумности выступает сравнение с действиями, которые должны предприниматься в аналогичных ситуациях. Тем не менее не всегда возможно применить сравнительный метод по отношению к конкретным управленческим решениям в силу специфики хозяйственной деятельности того или иного предприятия. В таком случае добросовестное контролирующее должника лицо должно максимально активно использовать принадлежащие ему процессуальные права для представления доказательств и сведений, подтверждающих экономическую целесообразность его действий. Некоторые ученые, например Н.В. Вишневская и В.С. Головко, видят в этом проблему для привлекаемых лиц, поскольку «на ответчиков возлагается повышенный стандарт доказывания и раскрытия всех обстоятельств сделок и действий» (2023: 38).
Представляется, что бремя доказывания наличия документально утвержденного плана выхода из кризисной ситуации и представления иных сведений справедливо возложено на контролирующих лиц, поскольку кредиторы должника объективно не могут обладать такими сведениями.
Как известно, действующее законодательство о банкротстве предусматривает два основания для привлечения к субсидиарной ответственности: за доведение должника до банкротства и за несвоевременную подачу/неподачу заявления о банкротстве.
Так, в случае подачи заявления о привлечении лица к субсидиарной ответственности в связи с невозможностью полного погашения требований кредиторов по вине такого лица, т. е. на основании ст. 61.11 Закона о банкротстве, в соответствии с п. 10 указанной статьи контролирующее лицо может быть освобождено от ответственности, если ему удастся доказать отсутствие своей вины и опровергнуть установленные данной статьей презумпции. Соответственно, в контексте положений этой нормы речь идет о принципе презумпции виновности контролирующего лица в чистом виде. Доказыванию своей правоты со стороны КДЛ подлежат обстоятельства, подтверждающие соответствие действий (или бездействия) нормальной обстановке гражданского оборота и добросовестность таких действий, т. е. их совершения с должной степенью осмотрительности и осторожности и исключительно в интересах должника. Также на привлекаемом к ответственности лице лежит бремя доказывания возможности возникновения еще большего ущерба интересам кредиторов при несовершении действий, которые рассматриваются как основание привлечения к ответственности.
Как отмечается в п. 18 ПП ВС РФ № 53, отсутствие вины у контролирующего должника лица в рассматриваемом случае также доказывается соотносимостью его действий, повлекших причинение вреда кредиторам, с границами «нормального риска предпринимательской деятельности» при условии отсутствия умысла к посягательству на законные имущественные права и интересы кредиторов. В этом же пункте ВС РФ указывает, что данным так называемым «правилом делового решения» следует руководствоваться также с учетом практики его использования в рамках конкретных предпринимательских отношений и отсутствия противоречия его применению положениям законодательства о банкротстве.
В свою очередь, в абз. 2 п. 19 ПП ВС РФ № 53 также отмечается, что при доказывании контролирующим должника лицом отсутствия оснований для его привлечения посредством опровержения презумпций, закрепленных в п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, допустимо делать ссылки на внешние факторы как на ключевую причину возникновения банкротства. Представляется, что к таким внешним факторам могут относиться форс-мажорные обстоятельства разного рода (стихийные бедствия, военные действия и аварии), а также возникновение экономического кризиса или существенное изменение обстоятельств осуществления предпринимательской деятельности. В судебной практике встречаются акты, которыми контролирующие должника лица освобождаются от ответственности в связи с доказанностью хотя бы одного из указанных фактов, например существенного изменения обстоятельств ведения предпринимательской деятельности1, либо при доказанности совокупности нескольких таких фактов, например внешних неблагоприятных факторов, сложившихся в экономике, и непредсказуемой ситуации на товарно-денежном рынке2.
Также для защиты такого особого вида контролирующего должника лица, как номинальный руководитель, при привлечении его к субсидиарной ответственности по указанному основанию применяется принцип ее уменьшения или освобождения от нее при раскрытии всей необходимой информации о реальных (фактических) руководителях должника со стороны привлекаемого лица. Согласно положениям, указанным в п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве, для применения обозначенного механизма необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, привлекаемое к ответственности лицо должно доказать, что принятые во время управления должником в качестве единоличного органа (члена коллегиального органа) или в качестве участника должника решения не оказали решающего воздействия на финансовое состояние подконтрольной ему организации, т. е. требуется доказать свою «номинальность». Во-вторых, «номиналам» необходимо предоставить суду сведения, благодаря которым удалось установить реального руководителя должника, который подпадет под заданные в подп. 2 и 3 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве критерии контролирующего должника лица и/или благодаря которым удалось обнаружить скрываемое имущество организации-должника или контролирующего должника лица1.
Как отмечено в абз. 3–5 п. 6 ПП ВС РФ № 53, в том случае, если суд примет решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности добросовестного номинального руководителя, то субсидиарную ответственность несет реальный руководитель должника в полном объеме. В том случае, если ответственность «номинала» не была уменьшена полностью, такой руководитель должен нести субсидиарную ответственность солидарно с фактическим руководителем. Соответственно, в данном случае недобросовестное делегирование полномочий реальным контролирующим лицам нивелируется активной добросовестной процессуальной позицией ответчика.
Также одним из методов применения категории добросовестности в целях защиты контролирующих лиц от субсидиарной ответственности при их привлечении на основании ст. 61.11 Закона о банкротстве является принцип уменьшения ответственности при доказанности существенно меньшего размера вреда имущественным правам кредиторам по сравнению с размером предъявляемых к привлекаемому к ответственности лицу требований в связи с малозначительностью проступка. С.В. Петухов считает необходимым использование критерия «существенности принимаемых решений» для «оценки степени негативного влияния на продолжение осуществления хозяйственной деятельности должником» (2023: 140). Возможность применения данного механизма закреплена непосредственно в абз. 2 п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве. За последние годы утвердилась судебная практика, при которой суды уменьшают размер ответственности контролирующих должника лиц до балансовой стоимости активов, по которым арбитражному управляющему не была передана бухгалтерская документация2, или до размера вреда, причиненного в результате совершения должником несущественных фраудаторных сделок3.
Рассматривая критерий добросовестности контролирующего должника лица в случае его привлечения по основанию, предусмотренному ст. 61.12 Закона о банкротстве, нужно отметить, что в данном случае основным принципом защиты ответчика является установление точного размера ответственности, который ограничивается установленными законом сроками и вытекает из правовой природы рассматриваемого основания. Фактически в данном случае речь идет о противостоянии с кредиторами, которые, напротив, пытаются недобросовестно возложить на привлекаемое лицо излишний размер ответственности. Как указано в абз. 1 п. 2 ст. 61.12 Закона о банкротстве, размер ответственности в этом случае определяется как совокупность обязательств должника, которые возникли после истечения срока для подачи в арбитражный суд заявления о банкротстве в соответствии с п. 2–3.1 Закона о банкротстве и до возбуждения дела.
В данном случае ограничение ответственности связано с тем, что контролирующее должника лицо действует недобросовестно путем введения в заблуждение о своей неготовности к надлежащему исполнению обязательств только по отношению к ограниченному кругу кредиторов. Как отмечают многие юристы-практики, ключевым моментом, с которого начинается суммирование обязательств перед кредиторами, является момент наступления объективного банкротства, который также выступает моментом возникновения у КДЛ обязанности обратиться в суд с заявлением должника (Чуприков, 2022: 66). В судебной практике высказываются аналогичные суждения, подтверждающие позицию, что размер субсидиарной ответственности на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве напрямую зависит от момента возникновения обязательств должника перед его кредиторами1. Следовательно, граница между добросовестным и недобросовестным поведением определяется моментом наступления объективного банкротства. Поэтому в дело могут вступить недобросовестные или «добросовестно заблуждающиеся» кредиторы, требования которых не подлежат удовлетворению в связи с их возникновением до наступления объективного банкротства, о чем ответчику надлежит заявить в целях своей защиты.
Также необходимо отметить, что для защиты контролирующего лица от притязаний недобросовестных кредиторов может быть применен механизм, установленный в абз. 2 п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве. Указанной нормой закреплена опровержимая презумпция о том, что заинтересованные лица (кредиторы) при вступлении в отношения с должником должны быть осведомлены о наличии признаков несостоятельности контрагента. Следовательно, при рассмотрении спора о привлечении к ответственности на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве ответчик может ссылаться на применение принципа осведомленности заявителей для исключения их требований из общего объема, что подтверждается и сложившейся судебной практикой2. Вместе с этим в практике ряда арбитражных судов действует подход, в соответствии с которым заключение кредитором с должником договоров на протяжении длительного времени при условии длительного неисполнения должником своих обязательств свидетельствует о явной информированности кредитора о критическом положении финансового состояния должника3. При этом такое лицо добровольно принимает на себя все возможные негативные последствия несостоятельности своего контрагента как независимый участник гражданского оборота.
В свою очередь, как следует из положений п. 3 ст. 61.12 Закона о банкротстве, а также абз. 4 п. 14 Постановления Пленума ВС РФ № 53, презумпция, закрепленная в абз. 2 п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве, не касается лиц, которые в силу объективных причин были вынуждены вступить в отношения с кредитором или продолжать их. В частности, к ним относятся налоговые органы, кредиторы, отношения с которыми возникли в результате деликтов кредитора, а также те кредиторы, которые были обязаны заключить договор на основании закона или решения уполномоченного органа.
Таким образом, механизм защиты контролирующих лиц от привлечения к субсидиарной ответственности сводится к доказыванию последними своей добросовестности. В настоящее время судебной практикой установлены повышенные требования к содержанию заявлений заинтересованных лиц о привлечении к субсидиарной ответственности: недостаточно просто указать конкретного управленца, виновного, по мнению заявителей, в наступлении банкротства. В обязательном порядке необходимо представить косвенные доказательства причинно-следственной связи между банкротством и действиями привлекаемого лица, а также подтверждения его намерений навредить экономическим интересам кредиторов. Только в этом случае бремя доказывания опровержимых презумпций переходит на ответчика4.
При этом отсутствие в законодательстве о банкротстве стандарта добросовестности делает задачу по ее доказыванию весьма непростой и возлагает на суд дополнительную обязанность максимально точно оценить все представленные сторонами доказательства. В связи с этим считаем важным дополнить действующие нормы гл. III.2 Закона о банкротстве положениями о том, какие средства доказывания должны быть обязательно учтены судом при оценке действий контролирующего лица. Такими средствами могут быть, например, финансовая экспертиза по вопросу корректности действий контролирующих должника лиц или утвержденный руководством должника и кредиторами план погашения задолженности, который должен был помочь должнику избежать наступления несостоятельности. Также представляется целесообразным ввести элемент стандарта добросовестности контролирующего лица, выражающийся в его процессуальной активности в виде содействия суду и кредиторам, в частности, посредством предоставления документов и сведений, доступ к которым может быть существенно затруднен не только для кредиторов, но и для арбитражных управляющих.
В заключение необходимо отметить, что вопросы о субсидиарной ответственности имеют особую социальную значимость в силу того, что в большинстве случаев юридические лица оказываются несостоятельными по объективным причинам. Предпринимательская деятельность по своей природе является деятельностью рисковой, что предполагает отсутствие однозначных гарантий успеха хозяйственной модели, даже при наличии долгосрочного планирования. Нельзя не согласиться с мнением ученого-правоведа П.Н. Коршунова, который полагает, что «в целом при рассмотрении вопроса о субсидиарной ответственности, пожалуй, самым важным становится понимание той грани, когда обычная рисковая деятельность в условиях обособленности имущества и ответственности юридического лица становится намеренным (либо неосторожным), виновным действием» (2020: 17).
Субсидиарная ответственность должна быть действительно исключительным механизмом восстановления прав кредиторов, а ее применение к невиновным управленцам может повлечь отрицательное отношение к ведению бизнеса через конструкцию юридического лица, что, безусловно, будет иметь негативное влияние на состояние экономики.
Список литературы Доказывание добросовестности как способ защиты контролирующего должника лица от привлечения к субсидиарной ответственности
- Вишневская Н.В., Головко В.С. Позиции Верховного Суда Российской Федерации о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности // Ученые записки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 2023. № 2 (23). С. 37-38. EDN: JWIXJJ
- Коршунов П.Н. К вопросу об освобождении от субсидиарной ответственности // Юрист. 2020. № 11. С. 14-19. DOI: 10.18572/1812-3929-2020-11-14-19 EDN: HUCBRQ
- Петухов С.В. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц в контексте осуществления должником хозяйственной деятельности // Legal Bulletin. 2023. Т. 8, № 4. С. 134-148. EDN: CGWKVO
- Рачеева Ю.В. Субсидиарная ответственность родственников контролирующего должника лица // Правовое регулирование экономической деятельности. ПРЭД. 2022. № 4. С. 67-71. EDN: XEVGKC
- Сарнаков И.В. Основания привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц // Правовое регулирование экономической деятельности. ПРЭД. 2023. № 3. С. 111-113. EDN: VSLBLO
- Чуприков М.В. Момент возникновения обязанности контролирующих лиц сообщить о финансовых трудностях организации // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2022. № 4. С. 56-75. DOI: 10.37239/2500-2643-2022-17-4-56-75 EDN: ZQSOPK