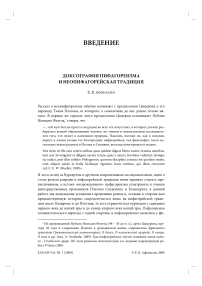Доксография пифагореизма и неопифагорейская традиция
Автор: Афонасин Евгений Васильевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Введение
Статья в выпуске: 1 т.3, 2009 года.
Бесплатный доступ
Общее введение Е. В. Афонасина (Центр изучения древней философии и классической традиции НГУ), призванное представить основные свидетельства о пифагореизме в римский период, со времен Цицерона до конца второго века н. э. Основные разделы: Возрожденный пифагореизм, Евдор Александрийский, образ пифагорейца в позднеантичной традиции (легенда о Пифагоре и сочинение Флавия Филострата Жизнь Аполлония Тианского), "пифагорейские" нумерологические спекуляции в иудео-христианской и гностической теологии (прежде всего, образ Пифагора и гностическая нумерология в Опровержениях всех ересей Ипполита).
Короткий адрес: https://sciup.org/147103278
IDR: 147103278
Текст научной статьи Доксография пифагореизма и неопифагорейская традиция
Рассказ о неопифагореизме обычно начинают с предисловия Цицерона к его переводу Тимея Платона, от которого, к сожалению, до нас дошло только начало. В первых же строках этого предисловия Цицерон вспоминает Публия Нигидия Фигула,1 говоря, что
«…сей муж был не просто сведущим во всех тех искусствах, в которых должен разбираться всякий образованный человек, но тонким и внимательным исследователем того, что лежит в основании природы. Наконец, именно он, как я полагаю, вернул к жизни учение тех благородных пифагорейцев, чья философия, после нескольких веков расцвета в Италии и Сицилии, впоследствии пришла в упадок.
Fuit enim vir ille cum ceteris artibus, quae quidem dignae libero essent, ornatus omnibus, tum acer investigator et diligens earum rerum, quae a natura involutae videntur; denique sic iudico, post illos nobiles Pythagoreos, quorum disciplina extincta est quodam modo, cum aliquot saecla in Italia Siciliaque viguisset, hunc extitisse, qui illam renovaret (ed. C. F. W. Mueller, 1890)».
И хотя, вслед за Буркертом и другими современными исследователями, идею о столь резком разрыве в пифагорейской традиции ныне принято считать преувеличением, а истоки «возрожденного» пифагореизма усматривать в учении непосредственных преемников Платона Спевсиппа и Ксенократа, в данной работе мы вынуждены установить временные рамки и, оставив в стороне всю предшествующую историю, сосредоточиться лишь на пифагорейской традиции после Цицерона и до Плотина, то есть ограничиться периодом с середины первого века до нашей эры и до конца второго века нашей эры. Пифагореизм эллинистического периода, с одной стороны, и пифагорейские элементы у фи-
лософов неоплатоников, с другой, представляют собой большие и важные сюжеты, которые заслуживают самостоятельного рассмотрения. Ограничимся лишь упоминанием соответствующей литературы,2 для данного введения поставив целью – рассмотреть античные свидетельства о пифагореизме указанного периода с тем, чтобы поместить публикуемые далее тексты в подобающий культурно-исторический контекст.
1. ВОЗрОЖденныЙ пифАгОреиЗм
Вернемся к свидетельству Цицерона и спросим себя, какого рода пифагореизм, процветавший некогда в Италии и затем пришедший в упадок, мог «возродить» Нигидий Фигул и на основании каких источников? Сам он, безусловно, пифагорейцем не был и его интерес должен был носить обычный для образованных римлян того времени «антикварный» характер. Как создатель «италийской» философии Пифагор продолжал пользоваться популярностью в Риме благодаря местному патриотизму. Так, к примеру, статуя Пифагора могла красоваться в Риме, будучи воздвигнута по прямому указанию Аполлона Дельфийского (Плиний, Естественная история 34, 26), книготорговцы распространяли «пифагорейские» трактаты, якобы написанные Лисием, Теано, Архитом, Тимеем, другими древними пифагорейцами и даже самим Пифагором, а неопифагорей-ское Второе письмо Платона мог цитировать (согласно Цензорину, О дне рождения IV, 3; кстати, первое упоминание об этом тексте) и о числе семь «пространно рассуждать» (по сообщению Авла Гелия, Аттические ночи ΙΙI 10), другой известный интеллектуал того времени – Варрон:3
«Марк Варрон в первой из книг, озаглавленных Седмицы или Портреты, рассказывает о достоинствах и многочисленных разнообразных свойствах седмицы, которую по-гречески называют Гебдомадой. “Ведь именно это число звезд, – говорит он, – составляет на небе Большую и Малую Медведицы, а также Вергилии, которые греки называют Плеядами, – звезды, которые Нигидий Фигул называет блуждаю- щими, а прочие авторы – странствующими”. Также он говорит, что на небе по длине земной оси располагаются семь окружностей… кроме того, он пишет, что круговорот луны совершается четырежды по полных семь дней… “Ведь когда в утробу женщины брошено оплодотворяющее семя, оно за первые семь дней сбивается в ком, сгущается и становится подходящим для принятия человеческой формы…” Опасности для жизни и всей судьбы, которые халдеи называют климактерами, оказываются наиболее опасными, если исчисляются семью… По его словам, сведущие в музыке врачи утверждают, что и кровеносные жилы у людей пульсируют в семеричном ритме, то что сами они называют четверичным согласием, которое происходит в сочетании с кратным четырем числом…» (пер. А. Б. Егорова, с изменениями).4
Как видно, чтобы написать трактат вроде этого, не нужно быть приверженцем пифагорейского учения: в нем не так уж много специфически пифагорейского, а о семи возрастах человеческой жизни, к примеру, пел еще Солон.
Намного более интересным источником для Нигидия Фигула могли стать труды знаменитого грека Александра Полигистора (род. ок. 105 г. до н. э. в Милете) – историка, географа и эрудита, близкого к пифагорейской традиции. Иудей по происхождению, в Рим он попал как военнопленный в 82 г. после Митридатской войны, но впоследствии обрел свободу и римское гражданство.5
Его интерес к античной философии и, в частности, к пифагореизму нашел отражение в истории философии в жанре «Преемств» (несколько раз цитируется Диогеном Лаэртием, при изложении жизни и учения Сократа, Платона, Карнеада, Хрисиппа, Пиррона, Пифагора) и в специальном трактате на очень традиционную тему – О пифагорейских символах (цитаты у Климента Александрийского, Strom . Ι 70, 1 и Кирилла Александрийского, Adv. Julian . IX = фр. 138 a–b FHG). Кроме того, в комментарии на «Тимей» Калкидия сохранился небольшой пифагорейско-астрономический фрагмент (140 a FHG).
Опираясь на недошедший до нас трактат Александра «Преемства <философов>», Диоген Лаэртий (VIII 24–33) пересказывает некий неопифагорейский источник, который получил в литературе название Anonymus Alexandri (текст: Thesleff 1951, 234–237; подробное исследование: Festugière 1945). Здесь излага- ется доктрина порождения чувственного мира из геометрических объектов, а последних – из математических. Началом всего является монада (единица), понимаемая как причина, которой подлежит неопределенная двоица, понимаемая как вещество. Из двоицы происходят остальные числа, из чисел – точки, из точек – линии, из линий – плоские фигуры, из них – объемные, из которых – чувственно воспринимаемые тела, составленные из четырех первоэлементов. Иными словами, излагаемая позиция, хотя и сохраняет дуализм в духе «таблицы противоположностей» Метафизики Аристотеля, умеренно монистична, поскольку монада все же называется «началом», а весь текст напоминает Тимей в интерпретации Спевсиппа.
Далее, в лучших доксографических традициях, кратко пересказываются воззрения «пифагорейцев» на устройство космоса (он одушевленный, разумный, шаровидный, в его центре находится земля, которая также шаровидна и населена со всех сторон), о временах года (излагается механизм смены времен года и времени суток в зависимости от соотношения света и тьмы, холода и жара, сухости и влажности), солнце, луне и других небесных телах (которые суть боги, потому что в них преобладает тепло, а оно источник жизни, причем верно замечается, что луна светит отраженным светом солнца и излагается механизм оживления всего лучами солнца, проходящими сквозь эфир). При этом оказывается, что «Рок есть причина расположения целого по порядку его частей». Как мы видели, Варрон также начинает с метеорологии, впрочем, такой порядок обычен для доксографов. Предложенная ранее теория тепла распространяется на «подлунный мир»:
«Живет все, что причастно теплу, поэтому живыми являются и растения; душа, однако, есть не во всем. Душа есть отрывок (ἀπόσπασμα) эфира, как теплого, так и холодного, – по ее причастности холодному эфиру. Душа – не то же, что жизнь: она бессмертна, ибо то, от чего она оторвалась (ἀπέσπασται), бессмертно» (здесь и далее пер. М. Л. Гаспарова, с небольшими изменениями).
Далее, подобно Варрону, составитель переходит к прихотливому смешению эмбриологии и учения о душе:
«Живые существа рождаются друг от друга через семя – рождение от земли невозможно. Семя есть струя мозга, содержащая в себе горячий пар; попадая из мозга в матку, оно производит ихор (“кровь богов», см. ниже X 60), влагу и кровь, из них образуются и плоть, и жилы, и кости, и волосы, и все тело, а из пара – душа и чувства. Первая плотность образуется в сорок дней (у Варрона – на седьмой неделе, то есть на 49 день), а затем, по законам гармонии (τοὺς τῆς ἁρμονίας λόγους), дозревший младенец рождается на седьмой, девятый или, самое большее, десятый месяц (согласно Варрону – до седьмого месяца никто не может родиться здоровым, а наиболее правильным будет рождение через 273 дня, то есть на сороковую неделю). Он содержит в себе все закономерности гармонии, по которым каждая из них выступает в соразмеренные сроки».
Зрение устроено так:
«Чувство вообще и зрение в частности есть некий пар особенной теплоты; оттого, говорят, и возможно видеть сквозь воздух и сквозь воду, что теплота встречает сопротивление холода, а если бы пар в наших глазах был холодным, он растворился бы в таком же холодном воздухе. Недаром Пифагор называет очи вратами солнца. Точно так же учит он и о слухе и об остальных чувствах».
Далее следует утверждение, не имеющее явных аналогов в других источниках:
«Душа человека разделяется на три части: ум (νοῦς), рассудок (φρήν) и страсть (θυμός). Ум и страсть есть и в других живых существах, но рассудок – только в человеке. Власть души распространяется от сердца и до мозга: та часть ее, которая в сердце, – это страсть, а которая в мозге рассудок и ум; струи же от них – наши чувства. Разумное бессмертно, а остальное смертно. Питается душа от крови. Закономерности души – это дуновения; и она, и они незримы, ибо эфир незрим. Скрепы души – вены, артерии, жилы; а когда она сильна и покоится сама в себе, то скрепами ее становятся слова и дела».
Festugière (1945, 44) отмечает, что «гомеровский» термин φρήν мог в эллинистическо-римский период использоваться в медицинской литературе и обозначать «мозг» (Anonymus Londinensis IV, 13–17). Связь мышления с эфиром прослеживается, к примеру, у философа IV в. Диогена из Аполлонии, который, кстати говоря, был не чужд медицине и эмбриологии. Анаксагор (Цензорин VI 2) считал, что в зародыше содержится эфирное тело. Можно привести и другие примеры, показывающие распространенность таких представлений.
Роль, которая здесь отводится теплу в физических и психических процессах, выглядит как стоическое влияние и, в принципе, может восходит, скажем, к Посидонию, однако, по замечанию Кана, со ссылкой на Хафмана (Kahn 2001, 81; Huffman 1993, 289), тепло играло определенную роль в биологии Филолая. Из квазиматериальной субстанции, вроде света или эфира, душа состояла по мнению Гераклида Понтийского (фр. 98 и 99 Wehrli). Анонимный философ из трактата Плутарха Об «Е» в Дельфах (390 a) говорит, что субстанция неба – это свет. Диллон (2005, 241 сн. 424) заключает, что это также мнение Гераклида. Наконец, Кан (Kahn 2001, 81–82) вспоминает в связи с этим текстом надпись из Потидеи (432 г. до н. э.), где говорится, что «эфир получает души, земля принимает тела».
Напротив, формирование эмбриона «по законам гармонии» (которые одновременно есть и «дуновения», и «скрепы души») звучит вполне по-пифагорейски, хотя о гармонической слаженности элементов и затвердевании зародыша под действием тепла (здесь: огня) говорится во многих трактатах гиппократовского корпуса, к примеру, в трактате О диете (8, 1–2; 9, 1–3; Лебедев 1989, 557). Как бы там ни было, после этого экстраординарного утверждения доксограф сообщает о судьбе души, покинувшей тело:
«Сброшенная на землю, душа скитается в воздухе, подобная телу. Попечитель над душами Гермес, оттого он и зовется Вожатым, Привратником и Преисподним, ибо это он вводит туда души из тел и с земли и с моря. Чистые души возводит он ввысь, а нечистые ввергаются Эринниями в несокрушимые оковы, и нет им доступа ни к чистым, ни друг к другу. Душами полон весь воздух, называются они демонами и героями, и от них посылаются людям сны и знаменья недугов или здравия, и не только людям, но и овцам и прочим скотам; к ним же обращены и наши очищения, умилостивления, гадания, вещания и все подобное».
И переходит к заключительному религиозно-этическому поучению Пифагора:
«Главное для людей, говорил Пифагор, в том, чтобы наставить душу к добру или злу. Счастлив человек, когда душа у него становится доброю; но в покое она не бывает и ровным потоком не течет. Справедливость сильна, как клятва, потому и Зевс именуется Клятвенным (ὅρκιον). Добродетель есть лад (ἁρμονία), здоровье, всякое благо и бог. Дружба есть равенство ладов. Богам и героям почести следует воздавать неодинаковые: богам – непременно в благом молчании, одевшись в белое и ос-вятившись, героям же – после полудня. Освящение состоит в очищении, омовении, окроплении, в чистоте от рождений, смертей и всякой скверны, в воздержании от мертвечины, морской ласточки, чернохвостки, яиц, яйцеродных тварей, бобов и всего прочего, что запрещено от справляющих обряды (οἱ τὰς τελετὰς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπιτελοῦντες)».
Что это? Отголоски древней пифагорейской традиции или же, как склонен думать Кан, доказательство реального существования пифагорейского, или, скорее, неопифагорейского ритуального сообщества, существовавшего в эллинистический период до I в. до н. э. (Kahn 2001, 83)? Учитывая состояние свидетельств на этот вопрос трудно ответить однозначно. В частности, не ясно, в какой мере имеет смысл говорить о специфически пифагорейском культе. Конечно, о том, что дом Пифагора превратили в святилище, мы знаем еще от историка III в. до н. э. Тимея из Тавромения (см. Léwy 1926, 53–59), а одна из италийских базилик была идентифицирована как «пифагорейский храм» (Car-copino 1927), однако древний пифагорейский союз и пифагорейские сообщества, если таковые существовали в эллинистическо-римский период, вовсе не обязательно должны были быть религиозными сектами, хотя вполне могли, выражаясь словами Кингсли, «вести подпольное существование в южной Италии римских времен» (Kingsley 1995, 322). Пифагореизм с древности тесно ассоциировался с орфической религией и литературой, так что орфизм и родственные ему религиозные движения вполне могли удовлетворять религиозные чувства приверженцев пифагорейского учения. Обратное менее вероятно: религия – явление более массовое, так что приверженцы орфико-вакхического культа, вроде тех, которые засвидетельствованы золотыми таблицами из италийских и греческих погребений 6 или захоронения в Дервени, могли испытывать пифагорейские симпатии или даже принадлежать к одному из «подпольных» пифагорейских сообществ.7
Главное для пифагорейцев – философия и наука, однако можно привести примеры того, как в древности магия и натурфилософия могли легко уживаться друг с другом. Чтобы убедиться в этом достаточно ознакомится с первыми шестью колонками Папируса из Дервени (к сожалению, очень плохо сохранившимися), где говорится нечто, весьма напоминающее приведенное место из Александра Полигистора:8
«(II)…Эриннии… прославляют… возлияния струями (σταγόσιν, букв. каплями) для Зевса в каждом храме. Затем выдающиеся почести причитаются [Эвменидам, «Благосклонным»], и подобает принести в жертву (букв. сжечь) по птице каждому даймону. И он положил [гимны] складно (букв. гармонично) на музыку… (III) Внизу… каждый получает даймона как врачевателя (ἰατρός)… Ведь Дика наказывает пропащих людей (ἐξώλεας) через каждую из Эринний, в то время как даймоны, живущие в подземном мире, никогда не блюдут… (..τ]ηροῦσι, не находятся в покое? не спят?) и, как божьи слуги, они… все (м. р.), есть (таковы), что неправедные люди…, и несут ответственность за… такие как (м. р., мн. ч.)… [..]υστ[ (посвященные или позже?) (V) Они вопрошают оракул… для них мы идем в святилище оракула, чтобы для тех, кто его взыскует, получить прорицание, подобает ли это… Почему они не верят в ужасы Аида? Не постигая (значения) сновидений или каких-либо иных вещей, на основе каких предупреждений (букв. свидетельств, примеров) они поверят? Побежденные заблуждением (ἁμαρτίης, букв. грехами), а также наслаждением (ἡδονῆς), они ничему не учатся и ни во что не верят. Неверие и неразумие – [это одно и то же, ведь если они не] разумеют и не учатся, [то они и] не поверят, даже если увидят (собственными глазами? сон?)… (VI)… мольбы и жертвоприношения умиротворяют души, а [песнопения] магов способны устранить наседающих даймонов. А наседающие даймоны – это [мстящие] души. Поэтому-то маги совершают жертвоприношение так, как будто они выплачивают пеню (ποινὴ[ν] ἀποδιδόντες). В качестве подношения они льют воду и молоко, из которых изготавливают возлияния (для умерших). Они приносят в жертву неисчислимые хлебцы со многими выпуклостями (πολυόμφαλα), потому что души также неисчислимы. Посвященные приносят предварительную (первую) жертву Эвменидам, равно как и маги. Ведь Эвмениды – это и есть души».
В этом контексте можно вспомнить Кратил 398 b, где говорится, что души благих людей пользуются почетом после смерти и становятся даймонами, а также Государство 468 d – 469 b, где сказано, что нечистые души сковываются Эринниями, а даймоны и души героев посылают людям сны и знамения о болезни и здоровье. Примечательно также высказывание Гераклита о душах в Аиде, которые «восстают (ото сна смерти)» и «становятся стражами живых и мертвых» (Ипполит, Опровержение IX, 10, 6 = fr. 73 Marc., 63 DK), очевидно, не позволяя другим душам сбежать, что интересно в орфико-пифагорейском контексте перевоплощения душ. Вкупе с кол. XX этот текст по-видимому показывает, что автором был скорее практикующий прорицатель, пожелавший объяснить некоторые из профессиональных секретов посвященным, или же стремящимся к посвящению, что может объяснить апологетический стиль этих разделов и демарш против наемных магов в кол. XX, нежели теолог-теоретик, систематически толкующий религиозный текст. Правда, как видно из последующих колонок, этот религиозный практик загадочным образом весьма интересовался натурфилософией и космологией, однако – вспомним, к примеру, Парацельса, – одно никогда не противоречило другому.9
Вернемся к первым принципам. Интересующий нас пассаж выглядит так:
«Александр в Преемствах философов говорит, что в Пифагорейских записках находится также следующее: началом всех вещей является монада, этой монаде как причине подлежит как материя неопределенная диада. Из монады и неопределенной диады происходят числа; из чисел – точки, из них – линии, из линий – плоские фигуры, из плоских – объемные фигуры, из них – чувственно воспринимаемые тела, которые составлены из четырех первоэлементов – огня, воды, земли и воздуха.
Эти элементы взаимодействуют друг с другом и подвергаются взаимным превращениям, создавая одушевленный, умный и сферический космос, с землей в центре, которая сама тоже шаровидна и повсеместно обитаема» (пер. М. Л. Гаспарова, с изменениями).
«Φησὶ δ' ὁ Ἀλέξανδρος ἐν Ταῖς τῶν φιλοσόφων διαδοχαῖς καὶ ταῦτα εὑρηκέναι ἐν Πυθαγορικοῖς ὑπομνήμασιν. ἀρχὴν μὲν τῶν ἁπάντων μονάδα· ἐκ δὲ τῆς μονάδος ἀόριστον δυάδα ὡς ἂν ὕλην τῇ μονάδι αἰτίῳ ὄντι ὑποστῆναι· ἐκ δὲ τῆς μονάδος καὶ τῆς ἀορίστου δυάδος τοὺς ἀριθμούς· ἐκ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ σημεῖα· ἐκ δὲ τούτων τὰς γραμμάς, ἐξ ὧν τὰ ἐπίπεδα σχήματα· ἐκ δὲ τῶν ἐπιπέδων τὰ στερεὰ σχήματα· ἐκ δὲ τούτων τὰ αἰσθητὰ σώματα, ὧν καὶ τὰ στοιχεῖα εἶναι τέτταρα, πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα· μεταβάλλειν δὲ καὶ τρέπεσθαι δι' ὅλων, καὶ γίνεσθαι ἐξ αὐτῶν κόσμον ἔμψυχον, νοερόν, σφαιροειδῆ, μέσην περιέχοντα τὴν γῆν καὶ αὐτὴν σφαιροειδῆ καὶ περιοικουμένην».
Нечто подобное говорит и Секст Эмпирик во 2-й книге Против физиков ( Adv. Math . X 248–309; ср. VII 94–109), существенно развивая терминологию и уточняя, как именно числа порождаются из монады, взятой в аспектах тождественного и иного:
«Пифагор говорил, что монада есть начало всего сущего, по причастности к которой каждая из существующих вещей называется единой. Будучи рассмотренной с точки зрения тождества по отношению к себе самой, она оказывается монадой, будучи добавленной к себе как иному она порождает неопределенную диаду, которая называется так потому, что сама она не является ни одной из исчислимых и определенных двоиц, напротив, все они получили название двоицы по причастности к ней, – то есть в том же смысле, как и в отношении монады. Итак, есть два начала сущего, первая монада, по причастности которой все исчислимые единицы мыслятся как единицы, и неопределенная диада, по причастности которой все двойки определенные двойки являются двойками» (261).
«ὁ Πυθαγόρας ἀρχὴν ἔφησεν εἶναι τῶν ὄντων τὴν μονάδα, ἧς κατὰ μετοχὴν ἕκαστον τῶν ὄντων ἓν λέγεται· καὶ ταύτην κατ' αὐτότητα μὲν ἑαυτῆς νοουμένην μονάδα νοεῖσθαι, ἐπισυντεθεῖσαν δ' ἑαυτῇ καθ' ἑτερότητα ἀποτελεῖν τὴν καλουμένην ἀόριστον δυάδα διὰ τὸ μηδεμίαν τῶν ἀριθμητῶν καὶ ὡρισμένων δυάδων εἶναι τὴν αὐτήν, πάσας δὲ κατὰ μετοχὴν αὐτῆς δυάδας νενοῆσθαι, καθὼς καὶ ἐπὶ τῆς μονάδος ἐλέγχουσιν. δύο οὖν τῶν ὄντων ἀρχαί, ἥ τε πρώτη μονάς, ἧς κατὰ μετοχὴν πᾶσαι αἱ ἀριθμηταὶ μονάδες νοοῦνται μονάδες, καὶ ἡ ἀόριστος δυάς, ἧς κατὰ μετοχὴν αἱ ὡρισμέναι δυάδες εἰσὶ δυάδες».
И действительно, затем Секст подробно описывает «пифагорейскую» систему категорий, которая вполне согласуется с категориями, принятыми в Древней академии и описывает процесс порождения числового универсума:
«Так остальные числа происходят из этих двух: единица всегда полагает предел, а неопределенная диада порождает двойку, распространяя числа до бесконечного множества. Так оказывается, что среди этих причин монада приобретает смысл действующей причины, а диада – пассивной материи (τοῦ δρῶντος αἰτίου λόγον ἐπέχειν τὴν μονάδα, τὸν δὲ τῆς πασχούσης ὕλης τὴν δυάδα). Создав из этих начал идеи чисел, они распространили далее этот процесс и на весь космос, и на все, что в нем» (277).
Далее описывается уже знакомая нам связь между первыми четырьмя числами и основными геометрическими объектами – точкой, линией, плоскостью и трехмерным телом (278–280). Причем утверждается, что древние пифагорейцы выводили все числа из двух начал, монады и неопределенной диады, из которых затем появлялись точки, линии, плоские и пространственные фигуры, в то время как новые пифагорейцы все выводят из одной точки (282). Принято считать, что эта доктрина представляет собой развитие воззрений Спевсиппа и Ксенократа и напоминает ту, которая критикуется Аристотелем в Метафизике XIII 7 (подробнее см., например, Dillon 2003, 40f, 90f; рус. пер. Диллон 2005, 53 сл. (Спевсипп), 119 сл. (Ксенократ)). О порождении чувственного мира из умопостигаемых объектов говорится и в пифагорейском источнике, пересказываемом Фотием ( Bibl ., Cod. 249). Правда, здесь монада возводится в ранг высшего принципа, из которого затем порождаются геометрические объекты. Однако эти объекты отличаются как от чисел, так и от геометрических трехмерных объектов, которые называются телами. Кроме того, в число порожденных начал не включается душа, и она не отождествляется ни с геометрическими, ни с арифметическими числами.
Дополнительно можно вспомнить о двух псевдоэпиграфических текстах, также неизвестного происхождения и времени написания. Первый из них, трактат Псевдо-Архита О началах (Stob. I, 41, 2, p. 278–279 Wachs. = Thesleff 1961, 19–20), кроме двух первоначал – формы (μορφώ) и материи (ὠσία), которые соответствуют монаде и диаде, признает третье высшее начало, «то, что движет само себя и первое по силе», причем «эта сущность должна быть не просто умом (νόω), но чем-то лучшим, нежели ум; и ясно, что именно то, что превосходит ум, мы называем богом».10 Во многом аналогично доксографиче-ское сообщение Сириана ( In Met ., p. 166, 3 sq. Kroll), согласно которому Архе-нет (наверное, ошибочное написание имени Архит), Филолай и Бронтин постулируют некий «общий каузальный принцип превыше двух причин», причем Архенет называет его «причиной причин», Филолай – «первопринци-пом всех вещей», а Бронтин (как и Псевдо-Архит) говорит, что он превосходит ум и сущность своей силой и властью.
«Следовательно, замечает по этому поводу Диллон, еще в пятом столетии Сириану были доступны документы, содержащие такие воззрения, однако к какому столетию восходят источники, им используемые, к сожалению, установить невозможно» (Диллон 2002, 125). Действительно, вопрос о датировке этих текстов едва ли может быть решен однозначно. Теслеф (Thesleff 1961, 26 f., 109, 113) склоняется к относительно ранней датировке (IV–III вв. до н. э.), другие авторы настроены более скептично (Burkert 1972, 53). Условно говоря, источник Александра и Секста следует датировать эллинистическим периодом, но не позже 80-х гг. до н. э. Кроме того, поскольку в нем впервые предпринимается попытка преодолеть исходный пифагорейский дуализм, естественно предположить, что нечто подобное должно было послужить образцом для Ев-дора Александрийского (I в. до н. э.), а затем Модерата из Гадиры (I в. н. э.), Никомаха из Герасы (II в. н. э.) и других неопифагорейцев, развивающих строго монистическую доктрину.11 Именно такая историческая перспектива вырисовывается и из свидетельства Калкидия ( Комментарий на Тимей 295, p. 297 Waszink; полный текст и пояснения см. в третьей главе, фр. 52 des Places):
Теперь рассмотрим пифагорейское учение. Нумений из школы Пифагора, отвергнув стоическое учение о началах, обратился к пифагорейской доктрине, которая, по его словам, согласуется с платонической. Он говорит, что Пифагор называет бога монадой (singularitas), а материю – диадой (duitas). В качестве неопределенной (in-determinatam) эта диада не рождена (minime genitam), будучи же ограниченной (limitatam) – рождена (genitam). То есть, до украшения формой и порядком она была без начала (ortus) и рождения (generatio), но, будучи упорядоченной и оформленной богом-демиургом (а digestore deo), она рождается; кроме того, поскольку рождение – это ее последующая судьба (furtuna), то, неукрашенная и нерожденная, она должна считаться такой же древней (aequaevum), как и бог, который ее упорядочивает. Однако некоторые пифагорейцы не поняли этого положения и решили, что неопределенная и безмерная (indeterminatam et immensam) диада также была произведена единичной монадой (ab unica singularitate), как будто эта монада, отступив от своей природы, допустила появление двоицы. Однако это неверно, ибо тогда то, что было, монада, перестала бы существовать, а то, чего не было, диада, стала бы чем-то сущим (subsisteret) и бог превратился бы в материю, а монада – в неопределенную и безмерную диаду.
Важным этапом в развитии неопифагорейской доктрины стала философия Евдора Александрийского, о котором мы, к сожалению, знаем немного. Рассмотрим несколько наиболее показательных текстов.
Этот Александрийский платоник, чьи работы сохранились лишь во фрагментарной форме,12 внес вклад в разные области философии и поэтому при- влекает самых различных исследователей, хотя его влияние на последующее развитие платонизма и не было столь определяющим, как это представлял, к примеру, Giusta 1964–1967.
Евдор был активен в Александрии во второй половине I в. до н. э., о чем мы узнаем благодаря Страбону, который жил между 64 г. до н. э. и 14 г. н. э. Как сообщает последний (XVII 790), Евдор и Аристон написали по книге о причинах разлива Нила и между ними возник спор о приоритете со взаимными обвинениями в плагиате. События описываются как более или менее современные. С другой стороны, Евдора не упоминает Цицерон, хотя, как замечает по этому поводу Диллон (2002, 119) Цицерон не очень следил за развитием философией в свои последние годы. Учителем Евдора обычно считают Диона Александрийского, друга и соученика Аристона как в школе Антиоха, так и в деле комментирования Аристотеля и Диодора Александрийского, ученика Посидония.
Евдор написал целый ряд работ, сведения о которых до нас дошли из различных источников. Выдержки из его Краткого очерка философии, организованного по тематическому признаку, в кратком пересказе Ария Дидима сохранились в составе антологии Стобея (Stob., Ecl . II 42, 7 sq. Wachs.). Комментарий Евдора на Тимей Платона используется Плутархом в его О порождении души в Тимее . В своем Комментарии на Категории Аристотеля Симпликий сообщает о том, что Евдор написал критический анализ Категорий . Александр Афродизийский в своем Комментарии на Метафизику (p. 59, 1 sq.) сообщает, что Евдор комментировал этот трактат Аристотеля. Несколько упоминаний о Евдоре содержатся в Комментарии на Явления Арата Ахилла.
Наконец, из Комментария Симпликия на Физику (181, 10 sq. Diels) мы узнаем, что Евдор писал о пифагорейских первых принципах, постулируя высшее начало, Единое, над традиционными для пифагорейцев монадой и неопределенной диадой (10–17). Это высшее Единое называется далее причиной (каузальным принципом) для материи 13 и всего из ее возникшего, и в отношении к ним выступает в качестве высшего божественного начала: «ἀρχὴν ἔφασαν εἶναι τῶν πάντων τὸ ἕν, ὡς ἂν καὶ τῆς ὕλης καὶ τῶν ὄντων πάντων ἐξ αὐτοῦ γεγενημένων. τοῦτο δὲ εἶναι καὶ τὸν ὑπεράνω θεόν» (17–19). Затем принцип, противоположный единице, эксплицитно называется неопределенной диадой, а сама единица – монадой (22–30).14
Именно, ap. Simplicius, in Phys . 181, 10–17 Diels, он говорит следующее:
«Должно сказать, что пифагорейцы превыше всего в качестве первого начала полагали Единое, а затем, на следующем уровне, помещали два начала сущих вещей, Единицу и природу, ей противоположную. В соответствии с этими последними они располагали все то, что считали противоположностями, так все изящное они относили к Единице, а невзыскательное – к противоположному принципу. По этой же причине эти последние не рассматривались ими как абсолютные, ибо если одно является началом одного, а другое – другого, то они, в отличие от Единого, не могут считаться общим началом для них всех».
«κατὰ τὸν ἀνωτάτω λόγον φατέον τοὺς Πυθαγορικοὺς τὸ ἓν ἀρχὴν τῶν πάντων λέγειν, κατὰ δὲ τὸν δεύτερον λόγον δύο ἀρχὰς τῶν ἀποτελουμένων εἶναι, τό τε ἓν καὶ τὴν ἐναντίαν τούτῳ φύσιν. ὑποτάσσεσθαι δὲ πάντων τῶν κατὰ ἐναντίωσιν ἐπινοουμένων τὸ μὲν ἀστεῖον τῷ ἑνί, τὸ δὲ φαῦλον τῇ πρὸς τοῦτο ἐναντιουμένῃ φύσει. διὸ μηδὲ εἶναι τὸ σύνολον ταύτας ἀρχὰς κατὰ τοὺς ἄνδρας. εἰ γὰρ ἡ μὲν τῶνδε ἡ δὲ τῶνδέ ἐστιν ἀρχή, οὐκ εἰσὶ κοιναὶ πάντων ἀρχαὶ ὥσπερ τὸ ἕν».
Рассматривая аристотелевские категории, Евдор также располагал их в соответствии со своей метафизической схемой. Сущность он соотносил с Единым, а качество и количество – с монадой и диадой соответственно. Качество как форма воздействует на количество и порождает идеи-числа (Симпликий, In Cat . 206, 10 sq.). Это напоминает сообщение Секста Эмпирика (см. выше), а также знаменитый фрагмент Модерата, в котором последний рассуждает в похожих терминах. О том же, что Евдор принимал истолкование идей как чисел в духе Древней академии, свидетельствует Плутарх ( О сотворении души в Тимее 1013 b сл.).15
Степень оригинальности Евдора – это сложный вопрос, однако ясно, что в своей метафизике он пошел значительно дальше не только источника Александра Полигистора, но и той пифагорейской литературы эллинистическо-римского периода, которая приписывается Архиту, Бронтину и Архенету и, непосредственно, или же в пересказе таких авторов, как Дидим, Плутарх и Ахилл, оказал влияние на развитие неопифагореизма I–II вв.
-
3. ОбрАЗ пиФАгОреЙЦА в пОЗднеАнТичнОЙ ТрАдиции
Легенда о Пифагоре и раняя биографическая традиция . Пифагор был личностью легендарной и легенда эта есть продукт пифагорейской традиции. Из политического деятеля VI в. до н. э., активного как в Малой Азии, так и в Италии, религиозного реформатора и, возможно, ученого,16 в глазах его позднейших последователей и почитателей он превратился в фигуру огромной величины, полубога и учителя праведной жизни, «посвященного», принесшего на греческую землю восточную мудрость. Именно последнее обстоятельство позволило Филону Александрийскому заявить, что его подлинным учителем был Моисей, отец всяческой философии, от которого греческие философы заимствовали лучшие из своих учений. Эта идея затем нашла развитие у раннехристианских писателей, таких как Климент и Евсевий, а также прослеживается у Нумения.17 Впрочем, историям о Пифагоре призывал верить еще Исократ ( Бусирис 28).
Хотя Платон упоминает пифагорейцев лишь дважды ( Государство 530 d и 600 a–b), влияние пифагореизма на его философию было очевидна современникам (Аристотель, Метафизика 987 а 29). Гераклид Понтийский (в диалоге Абарис , где Пифагор был одним из действующих лиц) перечисляет предыдущие рождения Пифагора и описывает его путешествие в подземный мир, что напоминает легенду об Орфее (Burkert 1972, 103, 138 sq.). Кроме того, как и Аристотель, он написал о пифагореизме специальную работу, – причем оба они уже приписывают Пифагору чудесные деяния и передают легенду о его божественном происхождении. Эта традиция продолжилась и в эллинистический период: например, Эратосфену принадлежит, по словам Леви, своего рода
«легенда о детстве» Пифагора: сообщается, что именно он был тем Пифагором с Самоса, который, будучи еще мальчиком, победил в 588 г. до н. э. на Олимпийских играх – верный признак богоизбранности.
Напротив, Аристоксену принадлежит первая литературная биография Пифагора, в которой он представлен скорее философом и политическим деятелем, нежели чудотворцем (фр. Wehrli 1945; очерк Lévy 1926, 44–49), и позднейшие авторы сочинений о Пифагоре к ней постоянно обращаются, не забывая, впрочем, и об альтернативной традиции, что, к слову сказать, было очень характерно для античных биографий: в них в рамках одного повествования легко уживались совершенно разные биографические сведения об одном и том же человеке. Как справедливо замечает по этому поводу Мансфельд (Mansfeld 1999b), это явление могло быть обусловлено
«…не одним лишь антикварным интересом, но, вероятно, также и желанием не пропустить важную информацию. Так поступая, древний автор мог быть уверен по крайней мере в том, что ему удалось сохранить все полезное. Эта консервативная страсть к альтернативным мнениям приводит к тому, что Диоген Лаэртий подробно цитирует источники, относящиеся к различным традициям, в том числе и достаточно экзотические. Эта черта характерна, например, для работы Порфирия Жизнь Пифагора (подобно ряду жизнеописаний у Диогена Лаэртия, включая и Пифагора), которая также содержит в себе изложение различных мнений (doxai). Вопрос об исторической достоверности сообщаемых сведений у этих авторов не ставится».
И в другом месте:
«В том, что из множества доступных жизнеописаний Иисуса церковь в конечном итоге решила выбрать четыре не во всем согласующихся друг с другом, также можно усмотреть аналогичную тенденцию».
Подробный очерк ранней биографической традиции здесь неуместен, упомяну лишь основные имена. Другой ученик Аристотеля и друг Аристоксена Дикеарх (Wehrli 1944) написал сочинение О греческом образе жизни , и ряд биографий философов, в том числе Платона. Примечательно, что к Пифагору он относился саркастически, сообщая, к примеру, что в предшествующей жизни Пифагор был куртизанкой, а в этой стал форменным софистом, который зачаровывал людей своими речами. О Пифагоре и пифагорейцах писал эллинистический историк Тимей из Тавромения, сообщая, в частности, о том, что дом Пифагора в Метапонте был превращен в святилище. Историк III в. до н. э. Неант (FGrHist 84) сообщает альтернативные версии как смерти Пифагора (он сгорел вместе со всеми во время восстания в Кротоне), так и его рождения (его отец родом из Финикии). Перипатетику Гермиппу (также III в. до н. э.) принадлежит еще одна сатира на Пифагора: высмеивается его мнимое сошествие в Аид (Диоген Лаэртий VIII 41). Работа Андрокида, историка, вероятно, IV–III в. до н. э. (Буркерт склонен к поздней датировке: Burkert 1972, 167), О пифагорейских символах пользовалась впоследствии большой популярностью и цитировалась многими авторами, однако едва ли была доступна после I в. до н. э. И, конечно же, о Пифагоре, его школе и учении писал Александр Полигистор (см. выше).
Излишне напоминать, что ни одно из этих сочинений до нас не дошло, причем новые биографии Пифагора появляются не ранее I в. н. э., такие, как также не сохранившиеся приключенческий роман Антония Диогена, где, среди всего прочего, сообщается о чудесном обнаружении младенца Пифагора Мнесиархом (Порфирий, Жизнь Пифагора 10 сл., 32 сл.) и жизнеописание некоего Аполлония, которого, вероятно, не следует отождествлять с Аполлонием Тианским из романа Флавия Филострата (см. далее). Аполлония цитируют Порфирий (2 гл.) и Ямвлих (254) и, как считается, используют еще в ряде случаев. Традицию Ари-стоксена в этот период, по-видимому, продолжает Никомах из Герасы, которого цитируют как Порфирий (20 и 59), так и Ямвлих (252). Далее – пробел в биографической традиции вплоть до начала III в.
Составляя свои жизнеописания, Диоген Лаэртий построил изложение (за редким исключением) в соответствии с «преемствами» и интересовался скорее образом жизни своих персонажей, нежели их философской позицией. Основателю италийского, или западного преемства Пифагору и его последователям уделяется должное внимание. Как и в случае с другими философами Диогена больше всего интересуют персональные качества и политическая позиция пифагорейцев, описываются их пищевые предпочтения и вера в переселение душ, причем одновременно используются, в пересказе или непосредственно, довольно много разноплановых источников: Аристотель, Аристокен, Дикеарх, Гераклид Понтийский, Гераклид Лемб, Гермипп, Сосикрат, Тимей, Фаворин и другие, в частности, цитируется знаменитая выдержка из Александра Поли-гистора. Об источниках Диогена и методах его работы см. небольшое исследование Mejer 1978, 29 сл. К сожалению, в ряде случаев учение Пифагора (VIII 9, 22–24 и 34–35) излагается анонимно. Самым знаменитым последователем Пифагора оказывается Эмпедокл, затем некоторого внимания удостаиваются Эпихагрм, Архит, Алкмеон, Гиппас, Филолай и Евдокс (в этом порядке). Подобное преемство мы увидим ниже у Ипполита.
Жизнь Пифагора Порфирия, хотя и содержательней, похожа на главу сочинения Диогена как в отношении используемых источников, так и по организации материала. Используются Дикеарх, Антоний Диоген, Неант, Никомах, упоминаются Аполлоний, Клеанф, Дурид Самосский, историк Лин, Евдокс и др. Кроме того, приводится большая цитата из Модерата (см. первую главу). В целом следует заметить, что Порфирий гораздо больше внимания уделяет чудесным историям, связанным с Пифагором, и его путешествиям на Восток. Агиографический характер этого сочинения типичен как для самого Порфирия (в его Жизни Плотина ), так и для других позднеантичных жизнеописаний философов, таких как биографии Платона (Олимпиодор), Прокла (Марин), Исидора (Дамаский) и, конечно же, архетипического мудреца – Пифагора (Ямвлих). 18
О пифагорейском образе жизни Ямвлиха – явление более комплексное. Используемые в нем источники и, как следствие, основные сведения, в общем, те же, что и у Порфирия, причем вопрос о том, использовал ли Ямвлих жизнеописание Порфирия не может быть решен однозначно: явные параллели могут объясняться общностью источников (краткий обзор источников Ямвлиха и структуры его сочинения см. Dillon–Hershbell 1991, 24–29). Ямвлих начинает свое сочинение заявлением о том, что «божественный» Пифагор был ниспослан свыше для наставления человечества, хотя в целом образ великого учителя праведной жизни у него более человечен. Как замечает по этому поводу Марк Эдвардс, он «очистил фигуру Пифагора от божественных черт лишь для того, чтобы представить его человеком с божественными способностями, почти равным охраняющим его богам» (Edwards 1993, 170).
Литературная биография . Эту же характеристику мы могли бы распространить на литературное творение Флавия Филострата – пифагорейца Аполлония Тианского. «Исторический» Аполлоний, странствующий мудрец, ведущий пифагорейский образ жизни, жил во времена императоров Нерона и Домициана. Ему приписываются 97 очень интересных писем, во многом напоминающих пифагорейские псевдоэпиграфы, причем ничто не указывает на то, что сочинение о жизни Пифагора, цитируемое Порфирием и Ямвлихом, написал этот Аполлоний.19
Благодаря усилиям и литературному таланту Флавия Филострата (ок. 170– 244 / 49 н. э.),20 который по поручению императрицы Юлии Домны сочинил пространное жизнеописание Аполлония в восьми книгах, странствующий любомудр из Тианы обрел вторую – литературную – жизнь, был обожествлен и даже помещен среди императорских кумиров. Среди своих источников Флавий называет прежде всего записки некоего Дамида из Ниневии, личного секретаря Аполлония и верного спутника на протяжении всех его странствий, однако большинство современных авторов согласны с тем, что Дамид, равно как и восточные путешествия Аполлония, – это литературная фикция (подробнее см. Bowie 1978, 1663 f.; Jones 2005, 21 f.). Из более достоверных источников упоминаются труд Максима Эгийского (вероятно, использованный в I, 7–16) и сочинение Мойрагена в 4 книгах, которому Флавий доверять не советует (I 3), однако, судя по сохранившимся цитатам из Мойрагена (напр., Ориген, Против Кельса VI 41), именно этот текст был для Флавия одним из основных источников. Не исключено также, что письма Аполлония или некоторая часть из них были сфабрикованы с целью иллюстрировать полемику с Евфратом и на основе трактата Мойрагена. Мы располагаем лишь двумя дополнительными свидетельствами, уточняющим время жизни Аполлония: согласно Лукиану (Александр 5) его герой Александр в молодости учился у Аполлония, что указывает примерно на 120 г., а Дион Кассий (Cassius Dio 67, 18) сообщает, что Аполлонию было по крайней мере 95 лет, когда у него было видение убийства Домициана в Эфесе.
Сочинение Флавия было впоследствии использовано неоплатоником Гие-роклом (ок. 307 г.) в целях полемики с христианством. Он утверждал, что Аполлоний был более великим чудотворцем, чем Иисус; странствующего пифагорейца также прославлял Флавиан Никомах в Historia Augusta . Изображение Аполлония встречается на медалях.
Около 312 г. последовал ответный трактат Евсевия Кесарийского «Против сочинения Филострата об Аполлонии Тианском и по поводу проведенного Гиерок-лом сравнения между ним и Христом», где справедливо отмечаются многие несообразности этого жизнеописания и его неисторичность (PG 22, 795–868; Jones 2006). Тем не менее, Аполлоний был известен и в течение византийского периода. Вплоть до XII в. византийские авторы (Малала, Кедрин, Цец) упоминают его в благоприятном свете, вспоминая его власть приручать змей и скорпионов и описывая талисманы, оставленные Аполлонием в различных городах, чтобы отгонять диких зверей, вредных насекомых, как, например, комаров, и предохранять город от природных бедствий. Хотя некоторые христианские авторы (например, агио-графы св. Феклы и Анастасий Синаит) отрицали способность Аполлония творить истинные чудеса, для других он был полухристианским пророком. Не исключено, что св. Валина, известный из греческой молитвы, мог представлять собой трансформацию Аполлония (Speyer 1974, 63).
Из достаточно заурядного философа-пифагорейца и мага, каковым он, вероятнее всего, был при жизни, благодаря Филострату Аполлоний превращается в реформатора учения Пифагора, вершителя судеб Римской империи, неустанного борца с тиранией, противостоящего Нерону, вдохновляющего Веспасиана, победившего в открытом судебном прении неправедного Доми- циана и спасшего тем самым будущего императора Нерву от неминуемой гибели. Легендарное происхождение Аполлония от бога Протея дополняется не менее удивительной историей о его загадочном исчезновении и посмертных деяниях (VIII 29–30). Флавий сообщает, что Аполлоний с молодости следовал пифагорейскому обычаю, выдержал пятилетний обет молчания, полностью воздерживался от сексуального общения и животной пищи, не носил никакой кожаной одежды, не стриг волос, полностью пренебрегал любыми материальными благами:
«Если спросил бы кто пифагорейца, выйдет ли от учения его польза и какая, я ответил бы так: “Ты научишься законодательству, геометрии, звездочетной премудрости, арифметике, гармонии, музыке, врачеванию, всякому божественному волхованию, и еще того лучше – благородству, щедрости, великодушию, постоянству и лепоте речей. А еще усвоишь знание – а не только мнение – о богах и постигнешь демонов не только верою, но и наяву, и будешь в дружбе с теми и другими. Вдобавок достанутся тебе независимость, усердие, скромность, умеренность в нуждах, сметливость, расторопность, благодушие, пригожесть, здоровье, бодрость, бессмертие”» (Письмо 52, пер. Е. Г. Рабинович).
Набравшись мудрости в родном крае, он, следуя примеру Пифагора, предпринял длительное путешествие на Восток, жил при дворе персидского владыки, а затем в Индии среди брахманов. Правда описание заморских стран у Филострата слишком сильно напоминает Грецию, чтобы быть достоверным. «Для мудреца везде Эллада», – как выражается в одном месте Аполлоний, в другом месте замечая, что «магами нужно звать» не только «любомудров Пифагорова толка, да заодно уж и Орфеева», но «философов какого угодно толка, ежели притязают они на святость и праведность» (Письмо 6; пер. Е. Г. Рабинович).
Божественное происхождение Аполлония подтверждается у Флавия его многочисленными пророчествами и исцелениями. По его представлению, мир – это временное пристанище, в котором душа проходит испытание («Небытие – ничто, бытие – мука», Письмо 90; ср. Письма 55 и 58, небольшие трактаты о смерти и бессмертии). Высший бог не нуждается ни в каких жертвоприношениях, путь к нему лежит через совершенную праведность, так что к нему и служащим ему низшим богам подобает обращаться только с одной молитвой: «Боги, воздайте каждому по заслугам» (I 10; VI 40; V 28). Все это – легко узнаваемый популярный пифагореизм. Праведность заключается при этом не только в воздержании от злодеяний, но и в добровольном следовании совершенным правилам (VI 21; VII 14), и подлинный праведник отличается от просто добродетельного человека, говоря словами Флавия, «не отчасти, но вполне».
Одним из самых знаменательных подвигов Аполлония было, согласно, Филострату (VIII 19), чудесное обретение знаменитых пифагорейских Золотых стихов – точнее, неких «поучений Пифагоровых», которые он вынес на свет после семидневного пребывания в Лебадейской пещере.
Разумеется, они были известны и ранее, а неоплатоник Гиерокл Александрийский написал комментарий на этот текст, пользовавшийся популярностью со времен средневековья вплоть до XVIII в. Сохранилось 15 рукописей, датируемых периодом до XV в., причем некоторые из них содержат сокращенную версию комментария, что выдает византийскую редакторскую правку в христианском ключе (Koehler 1974, Петер 1996).
Эта неопифагорейская дидактическая поэма (или ее прообраз) предположительно датируется I в. до н. э., однако неопифагорейская традиция приписывала ее самому Пифагору или его ближайшему окружению. В тексте поэмы (строки 67– 68) упоминаются и другие книги, приписываемые Пифагору – Очищения (более никем не упоминаются) и Избавления души (возможно, идентичные Нисхождению в Аид , подложному орфическому сочинению упоминаемому другими античными авторами), а первые строки сопоставлены у Ямвлиха ( О пифагорейском образе жизни 259) с легендарным Священным словом , которое, согласно Эпигену (IV в. до н. э.) написал не сам Пифагор, а пифагореец Керкоп.
Название Золотые стихи впервые засвидетельствовано лишь у Ямвлиха (IV в.), однако в пользу более ранней датировки этого текста говорит следующее: отдельные изречения и мысли, которые затем вошли в Золотые стихи , встречаются у более ранних авторов, по крайней мере, со времен Хрисиппа (если верить Авлу Гелию, Аттические ночи VII 2, 12–13 = Chrys., fr. phys. 1000 SVF II= т. 2(2), с. 183–184 Столяров), а затем у Цицерона, Плутарха, Галена, Диогена Лаэртия, Секста Эмпирика, Климента Александрийского и др. Поэма О природе мира , приписываемая Лину и часто цитируемая вместе с Золотыми стихами (например, у Ямвлиха, 139–145), причем сопоставление с другими фрагментами поэмы у Стобея показывает, что эта параллель не единственная: см. West 1983, 60–61), датируется (благодаря сообщению Гиппобота) временем между Хрисиппом и Аристобулом, – таким образом, в качестве terminus post quem для Золотых стихов предполагается кон. II – нач. I в. до н. э.
В дошедшем до нас виде Золотые стихи представляют собой поэму (71 строка гекзаметром), составленную из поучений и запретов, известных со времен древнего пифагореизма (например, в стихах 47–48 упоминается «четвери-ца – исток вечной природы», ср. Псевдо-Плутарх, Мнения философов , I, 3, 8 = DK 58 B 15). Избравшему пифагорейский образ жизни, как и у Аполлония, предписывается сначала приготовиться к трудному испытанию, затем очиститься, и только после этого направляться по пути морального и физического совершенствования, постигая законы божественные и человеческие. Как результат посвященный достигает спасения, исцелив свою душу и освободив ее от страданий (65–66), поскольку «божественный род и у смертных, вещая коим природа обряды все открывает» (63–64). Особой известностью пользовалась идея, изложенная в ст. 40–44, в которых пифагорейцу предлагалось перед сном обдумать все совершенное за день (пер. А. В. Лебедева):
Да не коснется очей твоих сон, смежающий веки,
Прежде, чем трижды дневные дела разберешь по порядку:
«В чем погрешил? Что сделал? Что должное я не исполнил?»
Однако значительная часть полезных сведений о Пифагоре и пифагорейцах приходит к нам из других источников, таких как Цицерон, Сенека, Плутарх, раннехристианские писатели или неоплатонические комментаторы, которые приводят сведения, извлеченные из биографий, доксографий, составленных на их основе антологий, или же цитируют других авторов, преследуя при этом свои цели и создавая, намеренно или нет, приемлимый для них «образ» Пифагора. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.
-
3. ЕдинОе-ВО-МНОГОМ: « ПИФАГОРЕЙСКИЕ » нумерОлОгичеСКие СпеКуляции В ИУДЕО - ХРИСТИАНСКОЙ И ГНОСТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ
Иудео-христианские писатели первых двух веков н. э. к пифагореизму относились амбивалентно. С одной стороны, создавая теологию трансцендентного божества, они вынуждены были обращаться к пифагорейско-платоническому учению о первых началах, и переосмысливали его в своих целях, с другой стороны, они яростно критиковали его, во многом по причине того, что аналогичные учения и с использованием похожих теорий развивали их оппоненты. Этот сюжет заслуживает отдельного изучения, в особенности в связи с такими иудео-христианскими теологами, как Филон, Климент и Ипполит,21 поэтому в данном разделе ограничусь описанием того «образа» Пифагоре, который создает Климент, большим доксографическим сообщением Ипполита о Пифагоре, и несколькими показательными примерами из уникальных гностических текстов неизвестного происхождения, которые приводит Ипполит.22
Образ Пифагора в Строматах Климента Александрийского
Этот раннехристианский писатель (ум. до 216 г.) упоминает Пифагора и приводит сведения о нем очень часто, а пифагорейским символам посвящает целую главу (V 27–30).23 Среди своих источников Климент называет вышеупомянутых Аристоксена, Неанта, Гераклида, Александра Полигистора, а также Аристарха, Гиппобота,24 Теопомпа Хиосского,25 Эпигена,26 Дидима 27 и других. Кто такой Аристарх сказать трудно, если только это не ошибка Климента или переписчика. Как полагает издатель Стромат (O. Stählin), речь здесь может идти об Аристотеле (cf. Arist., fr. 190 Rose). Разнообразие «источников», используемых Климентом, позволяет предположить, что все эти сведения перекочевали на страницы его произведений из вторых рук. Для того чтобы получить информацию, подобную той, которую он приводит, достаточно было воспользоваться какой-нибудь антологией или доксографией, не привлекая более специальных трудов. Это означает, во-первых, что сведения эти превратились во времена Климента в общее место, и во-вторых, возможно, хотя не необходимо, что оригинальных источников уже не существовало или же они были труднодоступны. Для своего изложения пифагорейских символов Климент зачастую пользуется тем же источником, что и Плутарх.
Прежде всего, в глазах Климента Пифагор – это мудрец и религиозный деятель, основатель тайной духовной традиции, которая корнями своими уходит в седую древность. Пифагорейская школа с самого ее основания была секретным обществом, дела ее были покрыты тайной:
«Пифагор Самосский, согласно Гиппоботу, был сыном Мнесиарха. Однако Ари-стоксен в своей книге Жизнь Пифагора , равно как и Аристарх и Теопомп, говорят, что родом он из Тира. Согласно Неанту, он происходит из Сирии или из Тира. Таким образом, большинство согласны, что Пифагор является по происхождению варваром» ( Strom . I 62, 2–3).
Пифагор был учеником Ферекида (Strom. I 62, 4; сf. Diog. Laert. I 12 и VIII 2), процветал во времена диктатора Поликрата (около 62 олимпиады, 532–529 гг. до н. э. – Strom. I 65, 2), однако подлинным его наставником был некий Сонхис, один из верховных египетских жрецов (Strom. I 69, 1).28 Пифагор много путешествовал и даже «…подвергся обрезанию для того, чтобы быть допущенным в египетские храмы…». Он общался с лучшими из магов и халдеев. «А их “общий стол” означает то, что нами называется церковью» (Strom. I 66, 2). «Алек- сандр в своей книге О пифагорейских символах говорит, что Пифагор учился у ассирийского мудреца по имени Зарат» (I 69, 6–70, 1).
Климент склонен полагать, что Пифагор сам написал несколько сочинений, но преподнес их публике как откровение, впервые ему открытое. Его ученики поступили аналогично:
«Ион Хиосский… говорит, что Пифагор приписал несколько своих сочинений Орфею. Эпиген в сочинении О книгах, приписываемых Орфею сообщает, что Сошествие в Аид и Священное слово 29 в действительности принадлежат пифагорейцу Керкопу…» (I 131, 4–5).
Сам Пифагор был мудрецом и пророком и основал италийскую философскую школу, которая просуществовала в Метапонте долгое время30 (I 133, 2; I 63, 1) и так далее и тому подобное.
Теперь давайте представим себе, что мы являемся слушателями Александрийской школы, основанной Климентом и его учителем Пантеном, и слушаем его лекции. Что мы смогли бы узнать о Пифагоре и его школе, при условии, что Климент является нашим единственным источником?
Климент, вероятно, сказал бы нам, что Пифагор являлся совершенным образцом праведности среди греков, которому надлежит следовать со всем тщанием. Однако дорога к этой праведности проложена по пересеченной местности и преодоление ее полно трудов, которые каждый должен суметь превозмочь самостоятельно:
«Пифагор имел обыкновение говорить, что разумно помогать человеку взваливать на себя ношу, но никто не обязан помогать ему снимать ее».31
Далее, Пифагор наставлял посредством сложной системы пищевых ограничений очищать тело и душу перед тем, как вступить на путь нравственного совер-шенствования.32 Основная причина этих ограничений состоит в том, что тяжелая пища является непреодолимой обузой для души, которая мешает ей «подняться в высшие сферы», препятствуя тем самым достижению того состояния парения, которое, после соответствующих упражнений, случается во время сна и медитации. Самоконтроль и правильная мера во всем абсолютно необходимы для того, кто надеется вступить на путь знания:
«Неправильная мера позорна в глазах Господа, правильный же вес приличен ему (Притч. 11.1)». Именно поэтому Пифагор предупреждает: «Не перешагивай через спуд».33 «Говорят, что пифагорейцы воздерживались от половых связей. Мне же кажется, что, напротив, они женились с тем, чтобы родить детей, действительно, воздерживаясь от сексуальных излишеств после этого. Именно поэтому они налагали мистический запрет на употребление в пищу бобов, а вовсе не потому, что бобы вызывают вздутие живота, рвоту и дурные сны, и вовсе не потому, что боб имеет форму человеческой головы, как в следующей строчке: Бобы потреблять все равно, что есть головы своих родителей (Orphica, fr. 291 Kern), – но по причине того, что потребление бобов приводит к женскому бесплодию».34 «Пифагор советует нам наслаждаться скорее Музами, нежели Сиренами, научая тем самым практиковать различные формы мудрости без чувственного желания».35
Приведенные пассажи показывают, что согласно Клименту цель пифагорейцев состояла не в воздержании или самоограничении во всем, но скорее в том, чтобы через воздержание от одного достигнуть лучших результатов в другом, более важном. Как и в случае с сексуальным самоограничением, Климент в целом расходится с теми, кто придает различного вида воздержанию слишком большое значение. Настаивает он на таком воззрении далеко не случайно. Причину всего этого мы увидим далее, когда дойдем до анализа той критики, которой подвергает Климент некоторые гностические школы, слишком увлекающиеся, по его мнению, самоограничением. Мы увидим, что Пифагор и там привлекается Климентом в союзники. Пифагорейская abstinentia должна базироваться скорее на разумных соображениях, нежели на слепом ритуале, говорит Климент. Одним из таких соображений является пифагорейская идея о единстве всего живого, учение о единой цепи, которая связывает не только всех людей, но и вообще все живые существа с богами. Этого одного факта достаточно для того, чтобы признать необходимость воздержания от потребления в пищу мяса:
«Кажется, пифагорейцу Гипподаму принадлежит следующее замечательное высказывание: “Существует три типа дружбы, первый из которых базируется на знании богов, второй нацелен на службу людям, а последний происходит из животного наслаждения”. Эти типы дружбы присущи, соответственно, философам, обычным людям и животным» (II 102, 1). «Лично я думаю, что Пифагор извлек свой бережный подход к неразумным существам из Закона. Он заявляет, к примеру, что не следует забирать немедленно молодняк из стад (...) в погоне за выгодой или с целью принесения в жертву» (II 92, 1)».
Объясняя такой совет Пифагора соображениями гуманности и рассматривая его как знак осуждения тех, кто заботится только о выгоде, Климент совершенно игнорирует традиционное пифагорейское объяснение гуманного отношения к животным, несомненно ему известное. Именно, пифагорейцы и писатели пифагорейского толка запрет убивать животных чаще всего объяс- няют именно «родством всего живого», имея в виду доктрину перевоплощения. Климент знает об этом, однако предпочитает более практическое объяснение, оставляя метемпсихоз гностикам, которые, по его словам, исказили учение Пифагора. Пифагор выступает здесь как положительный герой. Цель человеческой жизни также описывается в терминах «правильной меры»: Гераклит Понтийский сообщает, что Пифагор учил о счастье как знании совершенства чисел души».36
Для того чтобы быть зачисленным в пифагорейскую школу, кандидаты подвергались серьезным испытаниям. Но даже будучи принятыми, они в течение многих лет оставались только слушателями, акусматиками , то есть теми, кто, образно говоря, слышали лишь голос мастера, скрытого от них занавесью. Как правило, это сопровождалось пятилетним обетом молчания, в течение которых разум ученика становился достаточно светлым для того, чтобы воспринять учение, говорит Климент. После многих лет образования они становились, наконец, достаточно грамотными, или математиками, и получали право созерцания самого мастера.37 Если же они не выдерживали испытательного срока или совершали безнравственный поступок, то изгонялись из школы и в память о них воздвигался камень, символизирующий их «смерть», как это случилось с «отступником» Гиппархом.38 Так и христиане, говорит Климент, поступают с теми, кто оказался недостойным, оплакивая их, как покойников. Наш автор очевидно менее радикален в оценках.
Многочисленные ссылки на пифагорейцев в Строматах и цитаты из литературы пифагорейского толка позволяют предположить, что вся эта традиционная пифагорейская мудрость столь подробно излагается им далеко не случайно. И хотя он иногда действительно почти автоматически копирует из антологий, наряду с досократиками, стоиками, эпикурейцами и перипатетиками прихватывая заодно и Пифагора (e. g. Strom . II 127, 1 sq.), в большинстве случаев пифагорейская доктрина, чаще, чем другие (исключая, конечно, Платона), помогает ему найти нужный язык для выражения собственных мыслей.
Специфический режим пифагорейского сообщества, с характерными для него одинокими прогулками, медитациями, «общим столом», аскетическими практиками, ритуальным молчанием, обузданием страстей и «обращением»,39 не может не напомнить монашеский идеал, несомненно известный самому Клименту.40 «Истинный гностик», идеальный христианин, изображается Климентом в явно пифагорейских тонах.
Интерес Климента к пифагореизму не уникален: достаточно вспомнить идеальное сообщество терапевтов, которых изображает Филон в О жизни созерцательной , религиозный союз, после кумранских находок приобретший вполне реальные черты. Вероятно, мы наблюдаем здесь ситуацию взаимовлияния: Филон, гностики, Климент (и другие христианские философы), равно как и такие платоники, как Порфирий и Ямвлих «не сговариваясь» создали образ, который соответствовал идеалу их времени. Как результат – Пифагор Климента напоминает христианского «истинного гностика», в то время как Vitae Пифагора пишутся в жанре христианских Евангелий или Житий святых.41
Климент упоминает и цитирует изрядное количество различных «пифагорейцев». На страницах Стромат встречаются такие имена, как Керкоп(с),42 Бронтий (Strom. I 131, 1), Теано (I 80, 4; IV 44, 2; 121, 2),43 Филолай (III 17, 1), За-молксис (IV 58, 13),44 Гипподам (II 102, 1),45 Теодот гностик (IV 56, 1),46 Гиппарх (V 57, 3),47 Тимей Локрский (V 115, 4)48 и некоторые другие древние и поздние пифагорейцы, неопифагореец Нумений (I 71, 1, первое упоминание о нем!), но также и Нума царь Римлян 49 (I 71, 1; V 8, 4), Пиндар (V 102, 2),50 Исидор-гностик (II 114, 1), Филон Александрийский (I 72, 4; II 100, 3) и даже литературный персонаж, «пифагореец» из платоновского диалога Политик!
Такое разнообразие нуждается в объяснении. Какими принципами руководствовался Климент, причисляя всех их к пифагорейской школе? Исходная посылка Климента довольно проста:
«Я не склонен говорить [отдельно] о стоической, платонической, эпикурейской или аристотелевской философии, но применяю термин философия ко всему тому, что справедливо утверждается представителями всех этих школ относительно праведности и в соответствии со священной наукой» ( Strom . I 37, 6).
Создается впечатление, что Климент не склонен утомлять читателей строгими школьными дистинкциями. Напротив, он стремится доказать, что по сути своей все школы учат об одном и том же и лучшие учения их восходят к одной и той же традиции. «Одна дорога ведет к истине», однако философские секты, подобно менадам, разрывающим члены Пентея, стремятся доказать, что только их учение является единственно верным ( Strom . I 57, 1). Однако они забыли, говорит Климент, что существует только один создатель и сеятель,51 указывающий единственный путь к истине, несмотря на то, что множество тропинок из разных мест ведут к нему ( Strom . I 129, 1). Путь этот требует некоторой техники образования, которое начинается с подготовительных упражнений, затем постепенно доходит до наставлений, адресованных только тем ученикам, которые богаче по сравнению с другими одарены природой, «склонны к праведности» и, следовательно, в силах достигнуть большего.52 Наконец, немногие «тронутые тирсом», с великим трудом, достигают созерцательного (эпоптического) знания.53 Таким уже безразлично школьное деление, ведь они своими глазами видели сияние истины.
Климент, несомненно, кокетничает, говоря все это. Он вполне в курсе школьных споров и знает различие между, скажем, перипатетическим и пифагорейским стилями мышления не хуже нас с вами. Примечательно, что довольно часто (и иногда не в тему) упоминая перипатетиков, стоиков или пифагорейцев, он никогда не говорит о платониках. Более того, имена всех со- временных ему представителей платонизма (которых он, несомненно, знает) сознательно избегаются. Означает это, полагаю, или то, что он был склонен считать, что платоновской школы более не существует, или же, по каким-то причинам, недолюбливал своих платонизирующих современников, предпочитая поддержку во всем искать у самого Платона. Единственный платоник и неопифагореец, которого он цитирует, что не означает, одобряет – это Нуме-ний. Эпитет «пифагореец» здесь вполне уместен, однако тон Климента весьма сдержан, и называя Нумения пифагорейцем, он явно не апеллирует к авторитету древнего мудреца. То, что говорится, значит примерно следующее: «[Даже] Нумений, философ-пифагореец, вынужден [или склонен] признать, что “Кто есть Платон, как не Моисей, говорящий на аттическом наречии?”».54 Ну-мений, как и «перипатетик» Аристобул,55 цитируются в подтверждение мнения, к которому склоняется сам Климент.
Древние пифагорейцы у Климента всегда с титулом. Это отражает, вероятно, устоявшуюся доксографическую традицию и подтверждает тот факт, что сведения эти берутся Климентом из различных антологий. Пифагорейство царя Нумы, вероятно, было общепризнанно, поскольку и Плутарх величает его так же.56 Назвав итальянского гостя из платоновского диалога пифагорейцем, а не элеатом, Климент совершает ошибку, весьма, впрочем, понятную.57
Два оставшихся случая нуждаются в более подробном объяснении. «Пифагорейство» гностика Исидора и тем более Филона Александрийского – это явное изобретение Климента. Естественно задуматься, какова цель? Пифагорейство Филона обсуждается в недавней статье Дэвида Рунии (Runia 1995), где говорится, что, во-первых, эпитет «пифагореец», которым Филон награждается дважды,58 скорее является знаком благоволения Климента к своему предшественнику, нежели желанием скрыть его иудейское происхождение, как это некогда утверждалось. И, во-вторых, как мы видели несколько ранее, Климент судит о мыслителях, базируясь скорее на их «философских склонностях», нежели на реальной принадлежности к той или иной школе. В самом деле, иудейское происхождение Филона очевидно и так. Климент же намерен особо подчеркнуть пифагорейское происхождение различных числовых спекуляций, столь многочисленных у Филона. Итак, я нахожу аргументацию Д. Рунии вполне убедительной. Отмечу что, как и в случае с Нумением, это первое упоминание о Филоне в христианской литературе. Можно согласиться с А. ван ден Хук59 в том, что Климент в прямом смысле слова открыл Филона, извлек его из забвения и способствовал популярности его и его метода в позднейшей христианской литературе. Цитирует Филона Климент довольно часто (более 200 раз, согласно O. Stählin), однако имя упоминает только четыре раза. Вероятно, такое молчание также может быть объяснено особыми причинами. Однако, как замечает Хук, именно за этими четырьмя упоминаниями следуют обширные заимствования и многостраничные парафразы, так что Климент «сознается» примерно в 38% используемого из Филона материала.
Принадлежность Исидора к пифагорейству указывает совсем в ином направлении. Гностик использует пифагорейское учение, но делает это, согласно Клименту, плохо: «Исидор постулирует существование двух душ в нас, как и пифагорейцы» ( Strom . II 114, 1). Значит, пифагорейцы виноваты в том, что изобрели теорию о «двух душах», однако такая теория, особенно в той форме, которую она получила у Исидора, должна быть отвергнута. Некритичное отношение и злой умысел породили такие воззрения:
«Ревнители Пифагора Самосского, когда их просят объяснить их теории, опираются в своей вере, как это ни странно, на Ipse dixit , полагая, что этого “доказательства” вполне достаточно» ( Strom . II 24, 3).
Пифагорействующие гностики часто критикуются в различных частях Стро-мат . Ограничусь здесь двумя примерами. Ересь карпократиан, говорит Климент, базируется, в частности, на пифагорейских представлениях о Монаде и «общинном духе». Основатель этой ереси учил своего «сына» Епифана «знанию Монады». В трактате этого последнего (иначе как из Климента неизвестном), озаглавленном О справедливости , говорится, что, поскольку Бог является поборником равноправия, то все творение должно владеть всем равноправно и совместно. Так поступают все животные, почему же человек придумал частную собственность, отделив свое от чужого? «Почему в таком случае не считаются общими имущество или жены?» – спрашивает Епифан ( Strom . III 5, 1 sq.). Хотя идея равноправия сама по себе и нравится Клименту (cf. II 92, 1), он отвергает выводы, сделанные Епифаном, базируясь – вполне справедливо – на том факте, что вся аргументация последнего есть лишь софистическая подтасовка, основанная на смешении значения слов «равный» и «общий» (см. Афонасин 2008а, 43–47).
Мой второй пример касается критики воззрений Маркиона. Этот гностик учит о том, что рождение есть зло, основываясь, как полагает Климент, опять-таки на пифагорействе (III 12, 1 sq.; 13, 1–3), точнее, на Филолае:
«Последователь Пифагора говорит: “Теологи и древние мудрецы учат, что душа прикована к телу в наказание и похоронена в нем как в гробнице”» ( Strom . III 17, 1 = Philolaus. fr. B 44 DK).
Климент снова на страже авторитета древнего мудреца, защищая его от недостойных последователей. К слову сказать, Филолай цитируется в Строма-тах еще один раз, но уже с одобрением. Число семь, говорит Климент, пифагорейцы называют ἀμήτωρ, что в высшей степени похвально, поскольку вполне соответствует сказанному в Писании ( Лк . 20: 35).60 Нечто подобное повторяется и в Strom . V 126, 1.
В пятой книге Стромат, в разделе о символизме разных времен и народов и в том числе о пифагорейским символах, содержится следующее примечательное высказывание:
«Всестороннее освещение проявляет дефекты в вещах, в то время как можно увидеть множество значений в том, что сказано со скрытым смыслом. И хотя в такой ситуации неопытный человек впадает в ошибки, и только гностик понимает, это не означает, что “все должно быть объяснено всем при свете дня, или что благая мудрость должна вступить в контакт с теми, кто даже во сне не был чист душей. Справедливо ли всем и каждому открывать сокровища, добытые с таким трудом, и истолковывать мистерии Логоса профанам?” Говорят, что пифагореец Гиппарх, обвиненный в разглашении пифагорейской мудрости, был исключен из школы, и столб был водружен для него, как если бы он был мертв (cf. Iamblichus, De vita pythagorica 199). Так и варварские философы тех, кто отпал от учения и отдал свой разум во власть телесных желаний, называют мертвецами” ( Strom . V 57, 1–4).
В данном отрывке цитируется фрагмент из Письма Лисия Гиппарху, известного также из Ямвлиха, в котором Лисий, по преданию один из немногих выживших после разгрома пифагорейского союза в Кротоне (ок. 450 до н. э.) и бежавший в Фивы, упрекает Гиппарха в отступничестве. Именно на этом сюжете основывает Климент свое дальнейшее сообщение о Гиппархе. Здесь, как и в Strom . II 7, 2–3, в своей неизменной манере и следуя принципу «образованный человек должен знать своих классиков», он полностью умалчивает об источнике. Цитата буквальна, однако «мистерии Элевсина», естественно, заменены на «мистерии Логоса». Этот же отрывок цитирует Ямвлих ( De vita pyth. 75).61
Согласно позднейшей традиции, пифагореец Гиппарх (или Гиппас – De vita pyth. 88) обнародовал тайну иррационального числа и был инициатором рас- кола в древнем пифагорейском союзе. Плутарх (Нума 22, 2–4) сообщает, что Гиппарх совершил нечестие, поскольку разгласил невыразимое. Ямвлих более точен: Гиппас обнародовал диаграмму сферы, состоящую из двенадцати правильных пятиугольников (то есть открыл додекаэдр) и поэтому утонул в море в наказание за свое богохульство.
Выдержку из Письма Лисия приводит Ямвлих . Перевести этот фрагмент можно так:
«Говорят, что ты читаешь публичные лекции, то есть делаешь то, что сам Пифагор считал непозволительным. Ты знал это, однако не пожелал исполнять, вкусивши, дружище, сицилийских нравов (πολυτελείας). Но во второй раз такой номер тебе не пройдет. Ты порадуешь меня, если раскаешься, если же нет – считай, что ты мертв (εἰ δὲ μή γε, τέθνακας) ( De vita pyth . 75)».
Хорошенькое послание, в духе знаменитой сицилийской вендетты! И действительно, в скором времени Гиппарх утонул в море:
«Согласно пифагорейскому преданию, первый обнародовавший теорию иррационального числа потерпел кораблекрушение. Вероятно, они намекают на то, что все иррациональное в космосе, будучи иррациональным и без о бразным, любит прятаться, и что всякая душа, приблизившаяся к такому виду жизни и сделавшая его явным, повергается в море рождения и омывается его изменчивыми потоками» (Proclus, In Euclid . I, 44).
Климент использует утверждение о том, что отступничество равно смерти, однако понимает его гораздо аллегоричнее, нежели автор Письма . Источник, которым он пользуется, вероятно, другой (Лисий не говорит, например, ни о каком столбе).
Действительно, исторические события оставляют следы, а иногда они оставляют улики. Очевидно, в своем стремлении пройти предписанный курс наук слишком быстро, наш Гиппарх решил, что он уже достаточно грамотный (математик) и перешагнул пределы дозволенного. А дабы его пример стал другим наукой, ортодоксальные члены ордена решили навести порядок – и Гиппарх поплатился за свой проступок. Пифагорейцы были символисты, поэтому и приговор имел «символический смысл». Последующие же поколения, не видя или не желая видеть истинных причин раскола в древнем пифагорействе, измыслили несколько правдоподобных гипотез и даже приписали этому событию метафизический смысл. Стихия, мол, мстит тем, кто не слушается велений судьбы. Все это следы работы мысли, которые нам оставила история идей. Но кроме того сохранилась и одна улика – бесценное Письмо Лисия Гиппарху. Ничто не противоречит предположению, что документ этот, хотя он и является позднейшим подражанием, отражает некоторые подлинные события, о которых неизвестный автор письма мог знать.
Климент цитирует еще один пифагорейский псевдоэпиграф:
«Полагаю, что здесь уместно упомянуть и о пифагорейце Эврите, который в книге О случае пишет о том, что демиург создал человека по своему образу. После этого он прибавляет: “Из той же материи, подобно всему остальному, создано и тело тем совершенным художником, который, творя его, взял себя в качестве образца”. Пифагор, его последователи и Платон более всех прочих, как это видно из их учений, хорошо усвоили слова Законодателя и, посредством пристального вникания и не без божьей помощи, в меру и в соответствии с образом, им доступным, ухватили в пророчестве истину, пролив на нее свет и определив в терминах не совсем внешних по отношению к сокрытому в нем смыслу, тем самым оказав ей честь и обнаружив способность постичь ближайшее к истине» (V 29, 1–4).
Ссылка на Эврита, как предполагает Теслеф, – это ошибка Климента (Thesleff 1961, 39, 65, 69 n. 4). Псевдо-, или, лучше, неопифагорейский трактат О царе Экфанта содержит высказывание, вербально схожее с тем, что дает Климент (см. тамже главу Ekphantos ). В трактате говорится, что Царь – это совершенный образ Бога, который напоминает остальных людей только своим видом (σκαῖνος). Эрвин Гудинаф (Goodenough 1932, 115 sq.) высказал предположение, что этот трактат мог послужить источником для Quis rerum divinarum heres Филона Александрийского. Примечательно, что Климент также использует этот трактат Филона в Строматах ( Strom . II 110, 4–111, 2 = Qr 137; VI 134, 1 и 136, 4 = 167; VI 140,1 = 170; V 94, 5–6 = 231). Однако, как это показывает Тес-леф, подобное «влияние» представляется недоказуемым и малообоснованным, поэтому предположение о том, что Филон и Экфант использовали один и тот же источник, хотя и банально, более надежно (Thesleff 1961, 70).
Далее ( Strom . V 59, 1), также вероятно опираясь на неопифагорейскую традицию, Климент говорит о делении внутри пифагорейской школы:
«Ведь и обычай, принятый в пифагорейском союзе, делить всех, в соответствии с двумя степенями посвящения, на акусматиков, большинство, и математиков, или тех, кто по природе склонен к философии, означает, что нечто открыто, нечто же хранится в тайне ».62
Сравним аналогичное место у Ямвлиха:
«Беседуя со слушателями, Пифагор наставлял их дискурсивно и символически, так что форма преподавания его была двоякой. Из слушателей одни назывались математиками, а другие – акусматиками. Математиками становились те, кто изучил более обстоятельную и скрупулезно разработанную научную теорию, а акусматиками были те, кто прослушал наставления в науке без подробного и точного изложения» ( De vita pyth . 276, вероятно, из Никомаха).
Деление внутри пифагорейской школы объясняется различными авторами по-разному. Это или два типа наставлений в рамках одного образовательного процесса, или две школы, на которые раскололся пифагорейский союз, каждая из которых претендовала на «аутентичность». Два этих толкования у Ямвлиха объединились в одно. Он говорит, что некий «акусматик», то есть представитель школы акусматиков, Гиппомедон учил, что акусмы – это остатки древней мудрости, которые вначале были объяснены явно, впоследствии же смысл их был забыт. Акусматики буквально следовали указаниям акусм и интересовались, в основном, этическими проблемами. Напротив, «математики» занимались по преимуществу научными теориями и следовали не Пифагору, а Гиппасу, который ввел это новшество. Математики, полагает Ямвлих, соглашаются с тем, что акусматики тоже пифагорейцы, но настаивают на преимущественной истинности своих учений (De vita pyth. 87; De com. math. scientia 76, 19). Тем не менее, сама идея, согласно Ямвлиху, все же восходит к самому Пифагору. Когда он вернулся на Самос из Ионии, некоторые высокопоставленные политики заинтересовались его учениями. По этой причине он произнес несколько речей для открытой аудитории, которые не могли содержать технических деталей, понятных только подготовленным слушателям (De vita pyth. 88). Эти лекции (очевидно, подобные тем лекциям «к Кротонским молодым людям», «к кротонским женщинам», и даже «к тысячам», которые приводит сам Ямвлих) касались этических и политических вопросов. Этими речами он снискал всеобщее уважение и привлек к себе множество учеников, но далеко не все из них удостоились быть допущенными «во внутренний круг», «за занавесь». Таким образом, акусматики и политики отличаются от математиков и философов (150). Кто же из них является истинными последователями Пифагора – это загадка для нас столь же неразрешимая, как и для античных авторов.63
Согласно Клименту, разделение внутри пифагорейского союза – это именно две степени посвящения. Символы, или акусмы, открывали акусматикам только первоначала пифагорейской доктрины. Наиболее продвинутые в учении, математики, должны были уметь понимать эти символы. Значит, символы и акусмы важны не сами по себе, но как некое подготовительное средство, пролегомены к подлинному учению.
Один из интересных примеров того, как Климент адаптирует неопифагорей-скую доктрину в собственных теологических построениях, – это его представление о Логосе. Подробный очерк находим в начале седьмой книги Стромат (VII 5–7; 12). Миссия Логоса здесь укладывается в следующую схему. Изначально Логос является неделимой, все собой наполняющей славой Отца или его Премудростью и его первородным Сыном. Затем он становится помощником всемогущего Бога Отца, который оформляет мир в соответствии с неким планом. Кроме того, он является первоисточником всякого движения, космической силой, промыслом и божественной любовью, «располагаясь в центральной точке мира, которую он никогда не покидает» (VII 5, 7). Наконец, он описывается как Спаситель этого мира, пришедший в него во плоти. В конце времен он будет исполнять роль Судьи.
Мы видим, что изначально Логос представляет собой некий метафизический принцип, напоминающий универсум идей, которые мыслит Бог. Затем он становится неким движущимся разумом, напоминающим самотождественный ум Метафизики (L 1072 b 21). Таким образом, он выполняет функцию Демиурга. Наконец, оставаясь Божественным разумом, он «происходит» (V 16, 5) от Отца, становится неким самостоятельным существом и приходит в этот мир.
Что напоминает нам эта метафизическая структура? Вероятно, прежде всего, Платонов Парменид, а затем учение о двух Умах или Богах, характерное для современного Клименту платонизма и неопифагорейства. Действительно, мы располагаем свидетельствами о том, что неопифагорейцы различали два типа Ума внутри Единого, первый из которых является совершенно трансцендентным и невыразимым, в то время как второй, в нем содержащийся, представляет собой сущность, которая «подлежит всему». Эту концепцию обычно возводят к Евдору Александрийскому, который считал, что превыше всего располагается абсолютное первоначало, Единое, а ниже его два принципа всего сущего – «второе Единое и природа, ему противоположная» (Simplicius, in Phys. 181, 10 ff. Diels; об этом см. выше). Аналогичную идею находим в Учебнике платоновской философии Алкиноя (Didask. 164, 19–28). Действующий Ум, по-видимому, является универсумом идей, в то время как потенциальный ум аналогичен совершенному «живому существу» Тимея (31 a 5). Алкиной продолжает, говоря, что этот Бог невыразим и может быть постигнут только Умом (Didask. 165, 17–28). Климент повторяет все это почти буквально (Strom. V 81, 5). Он говорит, что Бог Отец пребывает в состоянии «покоя»; согласно Алкиною, «Отец, Прекрасное и Истина» также действует, оставаясь неподвижным (Didask. 164, 27, 37–41; 165, 3). Аналогия напрашивается сама собой.64 Структура первых принципов у Нумения аналогична предыдущему, с тем исключением, что его Демиург актуально приходит в этот мир ради материи, движимый любовью к ней (fr. 11 Des Places). Аналогичная идея расколовшегося Демиурга повторяется у Плутарха (Диалог о любви 765 a, 770 a) и у Ямвлиха (De myst. VIII, 3 des Places), где говорится, что Демиург, как древний Озирис или Дионис, разрывается на части и утрачивает свое исходное единство ради (или из-за) Диады. Ямвлих утверждает нечто подобное и в комментарии на Софист Платона, говоря, что Демиург связывается с небытием и, подобно магу, зачаровывающему души, завлекает ее некими принципами природы.65 Выражение θέλγων τὰς ψυχὰς используется и в Халдейских оракулах (fr. 135, 3 des Places), которое могло оказаться источником для Ямвлиха. Кроме того, и в самих Халдейских оракулах различаются Бог-Отец и вторичный по отношению к нему Ум (fr. 7 des Places), сохраняющий силу Отца, когда он его покидает (fr. 4). Следует заметить, однако, что Демиург Халдейских оракулов напоминает скорее Диаду, пифагорейский принцип множественности, и именно поэтому он в силах выступать посредником между чувственным и умопостигаемым миром. Правда в иных местах принцип множественности описывается как Геката, живущая в «чреве» Отца в центре мира (фр. 6, 8, 30, 32, 34, 50). Является ли эта Геката независимым от Демиурга принципом – из Оракулов не ясно.66 Термин κόλπος встречается и у Климента в том месте, где он обсуждает Ин. 1: 18.67 Он говорит при этом, что «некоторые» называют это чрево «бездной» (βυθός), в которой все помещено (ἐγκολπισάμενον). Сам неологизм заимствован из Филона (cf. Confus. 137), однако «некоторые» – это явно гностики валентиниане.
Именно поэтому, рассуждая о «чреве» Отца, Климент всячески изгоняет из своей системы любое упоминание о «матери мира», расточая хвалы Орфею за то, что тот называет Бога μητροπάτωρ (cf. Strom . V 126, 1). Оказывается, таким образом Орфей убил двух зайцев: он избавился от женского первопринципа и исключил идею творения мира из предсуществующей материи. Как и платоники, христианский мыслитель избегает представлений о любом женском начале, наподобие Гекаты. Даже София оказывается тождественной в его представлении Логосу.
Мы видим, таким образом, что метафизика Логоса у Климента строится по образцу платонической и неопифагорейской доктрины, а также содержит значительное количество элементов, общих и для гностических систем. Учение о двух Умах дает ему возможность переформулировать сложную проблему двойной природы Христа в терминах, понятных и приемлемых для каждого, кто прошел платоническую школу. Однако Климент никогда не говорит о логосе в терминах «внутреннего» и «произнесенного» слова и отнюдь не учит, вслед за стоиками, о двух логосах. Платонизм и пифагореизм привлекал Климента потому, что он предоставлял ему средства борьбы против эманациони-стской доктрины, которая, была столь характерна для школы Валентина (в отличие от Василида).68 Напротив, неопифагорейское представление о вечном Уме, который живет в «чреве» Отца, однако покидает его ради материи, движимый любовью к ней, весьма близко к сказанному в первых строках Евангелия от Иоанна и, опять же, трактует историческую миссию Христа в терминах, не совсем внешних по отношению к платоновской философии. Кроме того, эта идея, хотя и не христианская, все же выгодно отличается от учения многих «ложных», как их называет Климент, гностиков, поскольку Логос, даже погруженный в материю, все же остается добрым Демиургом, тождественным с предвечным Умом. Гностики же, напротив, утверждают, что Сын высшего Бога был послан в этот мир для того, чтобы спасти его от некоего злого Демиурга. Климент очень озабочен всем этим и возвращается к данной теме множество раз.69 Будучи ориентированным скорее на практическую философию, и не вдаваясь в метафизические тонкости, наш автор построил нечто, вполне напо- минающее неопифагорейство, даже предвосхитив до некоторой степени все то, что получило дальнейшее и полное развитие в позднейшем платонизме. Нео-пифагорейское толкование платоновского Парменида,70 учение о Монаде и Диаде и другие, характерно пифагорейские идеи, заимствованные из пифагорейских писаний, непосредственно или же при посредстве Филона, уложились весьма последовательно в его метафизическую схему. В результате возникла своеобразная теория, однако отдельные терминологические неувязки и стилистические особенности указывают на возможный источник.
Можно еще многое сказать о Клименте в его отношении к неопифагорейству, но даже те немногочисленные страницы Стромат , которые были раскрыты перед читателем, позволяют сделать несколько выводов, которые могут быть кратко сформулированы в следующих нескольких строках.
Анализ базовых положений теологии Климента не оставляет сомнений в том, что влияние так называемой неопифагорейской традиции пронизывает всю структуру его мысли, и многочисленные элементы, традиционно приписываемые пифагорейской традиции, неизменно присутствуют во всех частях его практической и теоретической философии. Климент называл Филона «пифагорейцем», мы, в свою очередь, могли бы также назвать и нашего автора. Климент «пифагорействует» очень часто. Элементы пифагорейской традиции обогатили его философские построения, однако некоторые терминологические несоответствия и структурные смешения различных типов мысли показывают, как рабочие гипотезы, некритически принятые Климентом, работают вместе, но временами противоречат друг другу.
Символизм является той частью образовательного процесса, который интересует Климента более всего. Осознание важности символизма является, можно сказать, философским новшеством Климента, его заслугой перед последующими поколениями христианских писателей. Этот процесс «символического образования» требует упорного труда, о чем свидетельствует сам литературный стиль Стромат.71 Не все орехи одинаково хороши (Strom.I, 7, 1), но тем не менее надлежит все их попробовать для того, чтобы выбрать из них лучшие и наиболее подходящие. Другого метода нет, однако такая деятельность может с легкостью отвлечь ученика и увести его в сторону. Поэтому необходим опытный наставник, который лично прошел через все «тернии», в прямом смысле «к звездам» (Климент весьма часто облекает свою мысль в такие астрономические термины). И поскольку этот наставник один, то и традиция, к нему восходящая, должна быть единой, хотя и расколотой, как Демиург материей, и рассеянной среди разных народов и культур. Поэтому Климент и стремиться обнаружить везде ее следы, и в русле эллинистической культуры взгляд его естественным образом обращается на легендарную фигуру Пифагора. К счастью, почва уже была подго- товлена многочисленными неопифагорействующими предшественниками и современниками Климента.
Кроме того, и сама идея межкультурного взаимодействия и синтеза была весьма популярна. Будучи очень образованным и практически мыслящим человеком, открытым для всего нового, Климент должно быть, немедленно уяснил себе ценность пифагорейского наследия, моральную и теоретическую значимость «пифагорейского образа жизни», равно как и полезность методов пифагорейского образования. Возможно, он интуитивно почувствовал и те новые возможности, которые откроются перед христианской традицией в том случае, если она позволит себе вступить в союз с более развитой эллинской культурой.
Ипполит о Пифагоре и пифагорейской традиции
В своей ересиологической сумме Ипполит перечисляет двадцать три философа, не считая других «древних», при этом достаточно четко выделяются досо-кратики («физики»), Сократ, Платон и платоническая традиция (не Академия!), Аристотель и перипатетики, Хрисипп, Зенон и стоики (в этой последовательности), Пиррон, академики и пирронисты. Это только то, что, так сказать, лежит на поверхности. Кроме того, в Опровержении всех ересей ( Refutatio ) встречается множество изолированных цитат и упоминаний о различных авторах. Например, в I 2, 12 говорится об Аристоксене (fr. 13 Wehrli), киники не упоминаются в первой книге, однако о них говорится в связи с Маркионом и Татианом ( Ref . VII 29, 1; X 19, 4; X 18),72 а в V 21, 1–2 упоминается Андроник Родосский (книгу которого «о соединении и смешении» использовали гностики-«сетиане»).
Все остальные философы рассматриваются Ипполитом в рамках некой широко им понятой пифагорейской традиции. Начинается она, естественно, с Пифагора, затем идут Эмпедокл, Гераклит, Платон, Аристотель и, с некоторыми ограничениями, стоики. Обо всех этих философах говорится в первой книге, однако дополнительные сведения даются и в последующих книгах, с шестой по девятую. В основном новый материал содержится в шестой книге в двух больших разделах о Пифагоре и Платоне, которые заканчиваются цитатой из Второго письма . Причем это письмо цитируется для того, чтобы доказать зависимость гностика Валентина от Пифагора, а не Платона. Тимей по мнению Ипполита – это также пифагорейский трактат (VI 22; cf. IV 8, 1 где имя Платона не упоминается, однако после слов «они говорят» цитируется Tim . 36 c–d). Все это несомненно показывает, что Ипполит использует здесь какой-то неопифагорейский источник.
Оказывается, что Аристотель также пифагореец, хотя и в меньшей степени, чем сам Платон, своего рода отступник. Аристотелевские категории, например, эксплицитно приписываются пифагорейцам (I 20, 1–3; VII 17). Тем не менее, доктрина Аристотеля по мнению Ипполита существенно отличается от пифагорейской, однако в данном случае – парадоксальным образом – это исключение только подтверждает правило. Ипполит неоднократно говорит (I 20, 3–4; cf. 19, 10), что Аристотель и некоторые другие платоники не принимают пифагорейского учения о душе, прежде всего представления о перевоплощении.73 Каким образом Эмпедокл и Гераклит стали пифагорейцами, сказать трудно, однако несомненно это изобретение не Ипполита, а его источника.
Стоики в этой теории также принадлежат к пифагорейской традиции. За исключением краткого изложения стоической доктрины в первой книге, осмысленное упоминание об этих последних в нашем трактате только одно (IX 27, 3). Оказывается, что пифагорейцы и стоики переняли доктрину «воспламения (ekpyrosis)» у египтян, которые, в свою очередь, узнали ее от евреев (cf. I 21, 4, где на том же основании стоики соотносятся с Эмпедоклом).74
Итак, сам источник Ипполита предоставляет ему прекрасную возможность для соотнесения этой фиктивной пифагорейской традиции с гностической и, что более важно, с современными Ипполиту христианскими противниками.75 Причем этот источник, судя по всему, отличается от того, из которого он извлек значительную часть (не нужной впоследствии) информации в доксографиче-ском очерке в первой книге. Следовательно, в очерке Ипполита просматривается несколько источников или, как говорит Мансфельд, «традиций», которые могли уже смешаться в его источнике (с. 43). Важно также то, что он несомненно подходит к своему источнику или источникам творчески, выбирая оттуда то, что нужно и, вполне вероятно, позволяя себе определенную переработку в тех случаях, когда это соответствует его целям. Следовательно, к свидетельствам Ипполита необходимо более внимательное и критическое отношение, нежели это принято в большинстве собраний фрагментов, которые по-прежнему следуют канонам, заданным Doxographi Graeci Дильса.
О Пифагоре Ипполит говорит трижды. В самой большой из всех, посвященных досократикам, секции первой книги (I 2), а также в IV 51, 1–9 и VI 21–29, 3. Подробно излагается жизнь Пифагора, его странствия и политическая карьера. Пифагорейским символам Ипполит также уделяет достойное внимание (VI 27). Говорится об организации пифагорейского союза, о тех пифагорейских методах образования, которые так восхищали Климента и о дальнейшей судьбе пифаго- рейской школы. Сказанное здесь Ипполитом хорошо согласуется с тем, что нам известно из Климента, а также из соответствующих разделов Диогена Лаэртия (VIII, 1 sq.), Порфирия, Плутарха, Ямвлиха, и того источника, который конспективно излагает Фотий (вышеупомянутого Anonymus Photii, ap. Bibl., cod. 249).
Рассмотрим эти данные по порядку. Как известно, первая книга «Опровержения всех ересей» Ипполита (вкупе с отдельными разделами последующих) представляет собой краткую историю античной философии. Со времен ее публикации Германом Дильсом в составе Doxographi graeci (Diels 1879, 553–576) считается, что Ипполит просто копировал из более ранних и подробных источников, составив в результате краткую и несколько фрагментарную историю, которой нам теперь приходится довольствоваться за неимением лучшего.76 Однако сравнительный текстуальный анализ показывает, что подобный подход слишком упрощает ситуацию. В действительности Ипполит, по-видимому, использует не один и не два (как думал Дильс), а несколько неизвестных нам источников, причем так, как ему удобно, в соответствии с явными и неявными целями, которые он преследует. Следуя методологии, предложенной Кэтрин Осборн, а затем Япом Мансфельдом,77 в тексте Ипполита можно вычленить несколько независимых источников и сопоставить их с другими данными.
Следует иметь в виду, что традиционное со времен Дильса разделение на биографические и доксографические сообщения в данном источнике не может быть последовательно проведено. Впрочем, сам Дильс также признавал, что эти два жанра у Ипполита смешаны, считая, правда, что они соблюдались в используемых им источниках. Как известно, он полагал, что первая книга составлена (полностью или по большей части) на основе двух источников. Первый источник (главы 1–4 и 17–25) представлял собой какой-то ранний биографико-доксографический компендий, а второй (главы 6–16) мог в конечном итоге восходить к Physikon Doxai Теофраста. Глава 26, посвященная Гесиоду, стоит особняком. Источник Ипполита мог быть поздним, так как во многом параллелен «Жизнеописанию Пифагора» Порфирия и «Дидаскалику» Алкиноя.78 Кроме того, часть данных о древних философах, в особенности те, которые приводятся в последующих книгах, могут происходить непосредственно из гностических текстов, которые пересказывает и критикует Ипполит, что еще более осложняет ситуацию.
Примерно в это же время появилась и другая философия, основателем которой был Пифагор, происходивший, как некоторые говорят, с Самоса. Она получила название италийской, потому что Пифагор бежал от Поликрата, самосского тиранна, и обосновался до конца своих дней в одном из италийских городов. Приверженцы этого толка (αἵρεσις) не очень удалились от его собственных суждений. (2) Исследуя естественные явления, он соединил астрономию, геометрию, музыку [и арифметику]. Божество он назвал монадой и, внимательно исследовав природу числа, пришел к выводу, что космос мелодичен и гармонично устроен; он впервые распределил движение семи звезд согласно ритму и мелодии. (3) Удивившись устройству всего [космоса], он предписывал ученикам сначала хранить молчание, как если бы они входили в этот мир посвящающимися в [таинства] мироздания. Затем, убедившись в том, что они хорошо освоили его учение и могут уверенно рассуждать о звездах и природе на философский манер, и достигли нужной чистоты, он позволял им говорить. (4) Своих учеников он разделял, одних называя эзотериками, а других – экзотериками. Первым он открывал более совершенные учения, а вторым – более умеренные. (5) Он был, как говорят, знатоком магии и изобрел физиогномонику.83
Положив в основание определенные числа и меры, он учил, что они охватывают начала числовой философии, составленные следующим образом. (6) Счет является первым принципом – единым, неопределенным, непостижимым, содержащим в себе все числа, распространяющиеся до бесконечности при посредстве [принципа] множественности. Началом чисел в качестве ипостаси становится пержде всего первая монада, которая есть мужская монада, порождающая подобно отцу все прочие числа. Во-вторых, диада выступает в качестве женского числа, она же в арифметическом смысле называется четной. (7) В-третьих, триада является мужским числом. Арифметически это число называется нечетным. Их дополняет тетрактида, женское число, также называемое четным, так как оно женское. (8) Так что от рода [ἀπὸ γένους] происходит всего четыре числа, – однако число есть неопределенный род, – из него составляется, как они считают, совершенное число, декада. Ведь один, два, три и четыре в сумме составляют десять, если для каждого числа будет сохранено присущее ему имя. (9) Ее Пифагор называл священной тетрактидой, «вечной природы исток [и] корень содержащей»84 в себе; от этого числа все остальные числа берут свое начало. Ведь [числа] одиннадцать, двенадцать и причие получают начало своего бытия от десяти. Из десяти, этого совершенного числа, [выводятся] так называемые четыре части: чис- ло, монада, дюнамис [= квадрат] и куб.85 (10) Соединение и смешение их ведет к началу (γένεσις) роста, согласно природе завершая порождающее число. Ведь квадрат при умножении на себя [κυβισθῇ] порождает квадрато-квадрат, а квадрат на куб <составляют квадрато-куб, а куб на куб> дают кубо-куб. Так что всего чисел, от которых все берет начало, семь: число, единица, квадрат, куб, квадрато-квадрат, квадрато-куб и кубо-куб.
-
(11) Он утверждал также, что душа бессмертна и переселяется из тела в тело. Поэтому он говорит, что до троянской эры он был Эталидом [уроженцем Эталии], во время Троянской войны – Эвфорбом, затем – Гермотимом Самосским, потом – Пирром Делосским, и, в-пятых, Пифагором.86 (12) Диодор из Эретрии и Аристоксен-музыковед 87 говорят, что Пифагор посетил Халдея Зарату [= 3ороастра], а тот изложил ему учение, согласно которому есть две изначальные причины вещей: отец и мать, отец – свет, мать – тьма, части света – горячее, сухое, легкое, быстрое; части тьмы – холодное, влажное, тяжелое, медленное; из них, из женского и мужского начала, состоит весь космос. (13) Космос по своей природе есть музыкальная гармония. Так солнце совершает свой оборот гармонично. Касательно того, что вышло из земли и о космосе, по их словам, Зарата учил так. Существует два демона, один небесный, а другой подземный (χθόνιον). Земной осуществляет творение из земли, то есть из воды; небесный же <из космоса, который есть> огонь, причастный [природе] воздуха, горячего и холодного. Поэтому, по его словам, ничто из этого не разрушает и не загрязняет душу, так как такова сущность всех вещей.
-
(14) Он, как говорят, заповедовал ученикам не употреблять в пищу бобов,88 потому что Зарата учил, что в начале и в период утверждения всего, когда земля еще проходила стадию затвердевания и гниения, возникли <одновременно люди> и бобы. В доказательство он приводил следующее наблюдение: если разжевать боб без кожуры и поместить на солнце на некоторое время, то немедленно можно увидеть результат – он начнет пахнуть как человеческое семя. (15) Указывает он также и на другой пример. Если, в период цветения бобов, взять боб и его цветок и поместить их в глиняный горшок, смешать и закопать в землю, то, откопав через несколько дней, мы увидим, что он сначала будет выглядеть как женские гениталии (αἰσχύνην), а затем, после детального рассмотрения, там можно увидеть голову развивающегося ребенка.
-
(16) Сам он умер и похоронен вместе с учениками в италийском городе Кротоне. Он имел обыкновение поступать так. Когда кто-либо приходил к нему с намерением стать его учеником, то ему предписывалось продать свое имущество и отдать серебро запечатанным Пифагору. После этого он должен был хранить молчание, когда три, а когда и пять лет, и учиться. Освободившись [из уединения] он получал разрешение оставаться с остальными в качестве ученика и делить с ними общую трапезу. В противном случае он получал назад залог и изгонялся. Эти люди становились эзотериками-
- пифагорейцами, остальные же – пифагористами. (17) Из числа его сторонников избежали гибели в огне Лисид и Архип,89 а также его слуга Замолксис, который, как полагают, научил кельтских друидов философии Пифагора. (18) Они говорят также, что числу и мере Пифагор научился у египтян. Будучи пораженным достославной, удивительной и нелегко доступной мудростью жрецов, он сам, подражая им, предался молчанию и заповедовал своим ученикам вести уединенную жизнь в подземных убежищах.
-
3. Эмпедокл
-
(1) Эмпедокл, живший после них, много говорил о природе демонов в том смысле, что, будучи многочисленными, они заняты тем, что управляют земными делами. Он утверждал, что началами всего являются Вражда и Любовь, что божеством является умный огонь монады (τὸ τῆς μονάδος νοερὸν πῦρ τὸν θεόν), и что все составляется из огня и в огонь разрушается. С этим мнением почти согласны и стоики, ожидающие воспламенения (ἐκπύρωσις). (2) Но более всего он согласен с учением о переселении души из тела в тело (μετενσωμᾶτωσις), так говоря: 90
Некогда я уже был мальчиком и девочкой,
Кустом, птицей и выныривающей из моря немой рыбой .
-
(3) Этот [философ] утверждал, что души переселяются во всевозможных животных. Но ведь и Пифагор, учитель всех их, утверждал, что сам был Эвфорбом, сражавшемся под Троей, так как, как сообщается, узнал его щит. Таковы мнения Эмпедокла.
-
4. Гераклит
-
(1) Физический философ Гераклит из Эфеса оплакивал все, осуждая невежество всей жизни и всех людей, но испытывая жалость к жизни смертных. Он утверждал, что сам знает все, а другие люди — ничего. (2) Высказывания его почти во всем согласны с Эмпедоклом: он также утверждал, что начало всего – вражда и любовь, что бог – это умный огонь, что все движется в противоположных направлениях и ничто не стоит.
-
(3) Эмпедокл считал, что пространство вокруг нас полно зла, причем зло простирается от околоземного пространства до Луны, а дальше не заходит, поскольку все надлунное пространство чище. И Гераклит думал так же.
-
5. [О плане книги]
-
10. [Промежуточный итог]
После них были и другие физики, чьи мнения рассматривать нет нужды, так как они не отличаются от вышеизложенных. Однако поскольку, вообще говоря, [от них] произошла не незначительная школа, и много физиков, каждый из которых отстаивал свой взгляд на природу всего, представляется разумным, рассмотрев философию школы Пифагора (τὴν ἀπὸ Πυθαγόρου), в соответствии с преемством вернуться к мнениям тех, которые пришли после Фалеса (κατὰ διαδοχὴν ἀναδραμεῖν ἐπὶ τὰ δόξαντα τοῖς μετὰ Θαλῆν), после чего мы сможем перейти к этической и логической философии: ведь Сократ является зачинателем этики, а Аристотель – диалектики.
[6–9. Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор, Архелай]
-
(1) Философия природы, таким образом, продолжалась от Фалеса до Архелая. Слуша-
- телем последнего стал Сократ. Имеются также многие другие, высказавшие различные мнения о божестве и природе всего. Однако если бы мы задались целью изложить здесь все их мнения, то нам пришлось бы добавить к этой еще множество книг. Так что, рассказав о самом необходимом, назвав по имени тех, которые заслуживают упоминания, будучи, так сказать, зачинателями [корифеями] всей последующей философии, устремимся в наших заметках к тому, что осталось еще рассмотреть.
-
14. Ксенофан
[11–13. Парменид, Левкипп, Демокрит]
-
(1) Ксенофан Колофонский, сын Ортомена. Дожил до [царствования] Кира. Он первым утверждал непостижимость всех вещей в следующих словах: 91
Если кому и удастся вполне сказать то, что сбылось, Сам все равно не знает, во всем лишь догадка бывает .
-
(2) Он полагает, что ничто не возникает, не уничтожается и не движется и что «все» есть одно, [причем] вне изменения. Он также утверждает, что бог вечен, один, подобен в каждой точке [своего существа], конечен, шарообразен и обладает чувствительностью во всех [своих] частях. (3) Солнце ежедневно рождается из скопления маленьких огоньков, а Земля бесконечна и не окружена ни воздухом, ни небом. Существует бесконечное число солнц и лун, и всё – из земли.
-
(4) Море, утверждал он, соленое, потому что в нем сливается много [веществ], образуя смеси. Метродор же говорил [70 А 19 DK], что море становится соленым оттого, что процеживается сквозь землю.
-
(5) Ксенофан думает, что земля смешивается с морем и со временем растворяется в воде, утверждая, что у него есть следующие доказательства: в глубине материка и в горах находят раковины. В Сиракузах, по его словам, был найден в каменоломнях отпечаток рыбы и тюленей, на Паросе – отпечаток лавра в толще камня, а на Мальте – плоские отпечатки всех морских существ.
-
(6) Эти [отпечатки], по его словам, образовались в древности, когда все обратилось в жидкую грязь, а отпечаток на грязи засох. Все люди истребляются, всякий раз как земля, погрузившись в море, становится грязью, а потом снова начинают рождаться. И такое основание бывает во всех мирах.92
-
15. Экфант
-
(1) Некто Экфант из Сиракуз утверждал, что достичь истинного знания о сущем невозможно и что [каждый] определяет его по собственному разумению. Первичные тела неделимы и им присущи три различия: величина, форма, сила, а из них возникают чувственно воспринимаемые вещи. (2) Число их определенно и при этом бесконечно. Движутся тела не под действием тяжести и не от удара, а под действием божественной силы, которую он называет «умом» (νοῦς) и «душой». Космос – образ (ἰδέα) ума, поэтому он и возник шарообразным под действием божественной силы. Земля в центре космоса и движется вокруг собственного центра [с запада] на восток.
-
16. Гиппон
-
(1) Гиппон из Регия полагал началами холодное или воду и горячее или огонь. Рожденный водой, огонь победил силу родителя и создал космос. (2) Душу он отождествляет то
-
17. [Заключение]
-
25. Друиды
с головным мозгом, то с водой, поскольку сперма, доступная нашему наблюдению, также состоит из влаги, а между тем из нее, как он утверждает, рождается душа.
Думается, мы добавили [к предыдущему] достаточно других [мнений]. Теперь, рассмотрев мнения физиков, нам надлежит обратиться к Сократу и Платону, которые отдавали предпочтение этике.
[18–24. Сократ, Платон, Аристотель, Стоики, Эпикур, Академики, Брахманы]
Кельтские друиды постигли в совершенстве пифагорейскую философию, и научил их этой дисциплине Замолксис, ученик Пифагора, родом фракиец.93 После смерти Пифагора он отправился туда и стал причиной распространения этой философии. Кельты чтили их как пророков и провидцев, так как они на основе пифагорейского искусства вычисления 94 и счета предсказали им некоторые [события]; о методах этого искусства мы также не умолчим, потому что на их основе некоторые решились установить особые толки. Друиды также практиковали магические обряды.
[26. Гесиод]
Заключительное замечание
-
(3) Все они рассуждали о природе и происхождении всего так, как изложено выше. Обратившись вниз в поисках божественного, они посвятили себя изучению сущности тварных вещей, восхищаясь величием творения и считая, его божеством, избрав каждый для себя ту или иную часть творения и не распознав Бога, <творца> и демиурга всего сущего.
-
(4) Как мне думается, я достаточно сказал о мнениях тех эллинов, которые занимались философией. За ними, приспособив все это для своих целей, последовали еретики, о чем я в скором времени расскажу. Однако сперва следует, как мне кажется, сообщить о мистериях и различных учениях о звездах или величинах. Ведь об этом, также ради достижения своих целей, многие рассказывают небылицы. Поэтому нам следует сначала разоблачить их беспомощные мнения.95
Перейдем к следующему тексту. В IV 51, 1–9 Ипполит пытается показать, что пифагорейский числовой символизм в точности соответствует гностической «эонологии». Этот раздел во многом повторяет I 2, 5–10, однако добавляет новую информацию о геометрии, вероятно потому, что Ипполиту в голову пришла гениальная идея о том, что Симон в основном заимствует у Пифагора геометрию, а Валентин – арифметику. По этой же причине (то есть с целью доказательства этой теории) повторяется информация из первой книги о том, что Пифагор путешествовал в Египет и там изучил математику. А поскольку известно, что египтяне узнали все это от Моисея, историческая перспектива четко вырисовывается.
Начинает Ипполит с изложения знаменитого пифагорейского процесса геометрического порождения мира. Точка, согласно этой схеме, порождает линию, линия – плоскость, а плоскость – трехмерное тело. Примечательно, что таким образом по Ипполиту порождается бесконечное количество чисел, хотя далее и говорится, что в действительности счет ведется до десяти, пифагорейского священного числа, «источника и корня всех вещей». Затем он переходит «к делу». В действительности, все порождается Гебдомадой, которую Симон и Валентин взяли в качестве основы для своих построений, просто назвав каждое число из этой семерки другими и весьма фантастическими именами. Этот же аргумент повторяется в VI 29. Манфельд отмечает (Mansfeld 1992, 167, note 41), что Ипполит вполне мог слегка поправить систему Валентина в соответствии с этой схемой, поскольку, как известно, у Валентина основную роль играет не семерка, а восьмерка. Правда, трудно сказать, в чем могла состоять эта редакторская правка, поскольку на первый взгляд эоны, которые перечисляет Ипполит, в точности соответствуют тем, которые называет Ириней. Скорее, здесь Ипполиту было не очень важно, в какой мере эта схема соответствовала действительности. Что Ипполит мог сделать, так это, в отличие от Иринея, который настаивал на дуализме системы Иринея, постулировать монизм. Однако и в этом случае он вполне мог основываться на другом источнике. Разумеется, сама идея свести всю систему Валентина к числовым спекуляциям присутствует уже у Иринея.96 Более того, Ириней развивает эту идею даже еще в большей степени, нежели Ипполит. Если Ипполит ограничивается теорией первоприн-ципов, то Ириней подробно описывает «магию чисел» Марка, которой Ипполит не касается. С другой стороны, Ипполит развивает эти аргументы в связи с Симоном, чего не делает Ириней.97
Можно заметить также, что те сведения о пифагорейском числовом символизме, которые знали или сознательно избирали Ириней и Ипполит, повлияли и на их толкование системы Валентина (и Симона в случае Ипполита). Действительно, Ириней в основном толкует о десятке и о четных и нечетных числах (parem et imparem), из которых выводятся sensibilia et [in]sensata (по-видимому, чувственное и умопостигаемое). Далее, по его представлению, из чета и нечета (вполне в согласии с таблицей пифагорейских противоположностей у Аристотеля, Met . I 5, 985 b 23 sq.) возникают все остальные числа. Именно так же дуалистично выглядят, по его мнению, и система Валентина, и именно за это критикуется.98 По Ипполиту, напротив, началом всего является
Единое, которое содержит в себе бесконечное множество чисел и последовательно порождает их как отец, в результате возникает иная интерпретация системы Валентина ( Ref . VI , 29, 2–3; цитату см. выше). Различия между Единым и Монадой у Ипполита не наблюдается (Cf. Philo, Leg . II 176; De vita cont . 3), хотя естественно было бы этого ожидать, тем более что это деление хорошо вписывается в рамки системы Валентина. Примечательно, что в VI 23 Ипполит говорит о монаде, а единое не упоминает вообще. Точно так же, двоица по всей видимости не отличается в этом очерке пифагорейских перво-принципов от «неопределенной двоицы». Трудно сказать, виноват ли в этом упущении Ипполит или его источник. 99
Такое разногласие находит соответствие и в античной пифагорейской традиции, точнее, традициях, о которых говорит Секст Эмпирик, различая между «древними» пифагорейцами, которые возводили числа к двух принципам, Монаде и Диаде, и «младшими», которые выводили все роды вещей, числа, фигуры и твердые тела из одной точки, то есть придерживались более монистичной доктрины ( Adv. Phys . II 282).
С одной стороны мы имеем изложение пифагорейской метафизики Александром Полигистром (ap. Diog. Laert. VIII 25), где говорится о двух перво-принципах: Боге или Едином и материи или неопределенной двоице. Эта схема согласуется и с тем, что сообщает Аристотель. С другой стороны, Евдор (ap. Simplicius, In Phys . 181, 10 Diels) и Нумений (ap. Calcidius, In Tim . 297, 1 = fr. 52 des Places) утверждают, что в начале лежит абсолютное Единое первоначало, ниже которого располагаются два порождающих принципа (второе единое и ему противоположная природа по Евдору или монада и неопределенная двоица по Нумению). Нечто подобное сообщает и Филон. Именно такое толкование было характерно для большинства средних платоников и неопифагорейцев второго века и восходит к различению умопостигаемых начал и чисел древней академии, которую критикует Аристотель в Met . XIII 7.
Пойдем далее. В VI 9, 4–18, 7 Ипполит пересказывает некий гностический текст, называемый Megale Apophasis , который он приписывает Симону Магу (цитату см. ниже). Этот текст представляет собой философско-мифологический трактат, содержащий большое количество аллегорий из Гомера, Библии и, вероятно, стоических философских сочинений, что существенно облегчило Ипполиту его задачу. Началом всего объявляется огонь «двоякой природы», одновременно скрытый и явный. Из этого огня возникают шесть сил, расположенных парами: ум и мысль, голос и имя, размышление и замысел. Кроме того, говорится и о седьмой силе, которая называется логосом и
«тем, что вечно стояло и будет стоять». Детали, касающиеся этого интересного трактата, читатель найдет в предисловии к его переводу во второй части данного исследования, в настоящий момент отметим только несколько моментов, сказанных с критическими ремарками Ипполита по его поводу. Ипполит говорит, что автор трактата злонамеренно искажает писание и прикрывается им для того, чтобы в качестве своей теории выдать то, что уже давно известно грекам, а именно «пифагорейцам» Гераклиту, Платону, Аристотелю и Эмпедоклу. Причем он даже перенял «темноту» стиля у Гераклита. Не забывает он отметить и то, что эта систему впоследствии перенял Валентин (20, 4). Дополнительной доксографической информации в этом разделе немного.
Прежде чем перейти к критике доктрины Валентина, Ипполит снова обращается к пифагорейцам (VI 21–29, 3). В данном случае он не ограничивается только общими местами, но и добавляет много новой информации, важной (для нас) не только в связи с гностицизмом, но и с точки зрения истории пифагорейской доктрины. Начинает он с уже известного нам заявления, что Валентин украл свою доктрину (точнее, ее основные «гипотезы») у Пифагора и Платона (21). Платон же изложил пифагорейские «гипотезы» в Тимее , основные идеи которого восходят, в свою очередь, к египетской мудрости (22). Ясно, что такая интерпретация может быть основана на собственных словах Платона в Тимее , правда, в таком случае оказывается, что и Солон также был пифагорейцем! Эта странная теория наверняка была уже общим местом в пифагорейских кругах. Далее идет еще один очерк пифагорейской математики, который во многом схож с базовым описанием пифагорейской доктрины в первой книге. Новая информация сообщается и об Эмпедокле.100 Причем говорится, что эта доктрина является тем самым «эзотерическим» учением, которое пифагорейцы открывали только самым близким и продвинутым ученикам (μετὰ σιγῆς), поэтому она-то как раз и соответствует тому, что и сам Валентин преподносит как тайное учение, открытое «Тишиной (Σιγή)».
Эта же линия аргументации продолжается и в процессе изложения доктрины Валентина, которое непосредственно следует за очерком пифагореизма. Ипполит начинает с заявления, что «…из учений Пифагора и Платона, не из Евангелия берет начало ересь Валентина… Поэтому сам Валентин, а также Ге-раклеон, Птолемей и все их школа, подобно ученикам Пифагора и Платона, положили в основание своих систем числовые спекуляции…» (VI 29, 2–3). Проводятся также аналогии с Симоном Магом. Огонь, как оказывается не только «лежит у корней вещей», но и «двойной природы» (32, 7–9). София также описывается в пифагорейских терминах как «Четверица, источник и корень вечно текучей природы» (34, 1). Пары эонов также эксплицитно связываются с пифагорейской доктриной (34, 3).
В лучших доксографических традициях описание доктрины Валентина, которую он называет «великой мистерией», Ипполит заканчивает еще одним очерком пифагореизма. В действительности, это просто несколько тесно переплетенных пассажей из так называемого Второго письма Платона, которое, как уже давно доказано, представляет собой пифагорейский псевдоэпиграф (VI 37 = [Plato], Epist. II 312 c–313 a, 314 a–c).101 Это письмо было довольно хорошо известно не только пифагорейцам и платоникам, но и христианским ав-торам.102 Ипполиту, судя по всему, это письмо важно как доказательство того, что пифагорейцы хранили некоторые свои доктрины втайне. Кроме того, Валентин снова обвиняется в том, что он воспользовался этим письмом при построении своей доктрине о первых принципах, заменив «царя всего» письма на «свою Бездну», а второе и третье, соответственно, на гностический умопостигаемый универсум, «Плерому», и то, что находится «за пределом (Горосом)». Затем цитируется, в подтверждение этого предположения, гимн Валентина Жатва (37, 7), и после цитаты предлагается толкование этого гимна в контексте письма. Толкование это довольно натянуто, причем Валентин, оказывается, начинает отсчет «снизу».103
Пифагорействующие гностики
В завершение приведу несколько довольно своеобразных текстов, сохранившихся только у Ипполита. В первых двух отрывках речь идет о «пифагорейской» триаде первых начал, из которых возникает мир. В некоторых случаях наблюдается более или менее строгий монизм, в других же, как в случае так называемых «наассенов», согласно которым «говорящий, что космос происходит из одного [начала], ошибается, а полагающий, что из трех, – говорит истину» ( Refutatio V 81; ср. 20, 9 («сетиане») и др.), выстраивается система трех начал, которые включают в себе совершенное число – декаду. Затем идет интересная спекуляция по поводу шести и семи дней творения – псевдоэпиграф, приписываемый персонажу евангельских времен Симогу Магу (см. выше и новое исследование Haar 2003).
В заключение приводится один интересный пример, во многих отношениях уникальный. Речь идет об иначе не засвидетельствованном труде Монойма Араба,104 который пересказывает и в одном случае цитирует Ипполит. С одной стороны, его учение напоминает рассуждения других «гностиков Ипполита», а с другой, своеобразно и аналогов не имеет. Как и у других гностиков (прежде всего, так называемых «наассенов», о которых также сообщает Ипполит), вначале у Монойма находится Человек и Сын Человека, причем второй возникает из первого в результате физического процесса, подобного нисхождению света от огня. В этой связи вспоминается анонимный пифагорейский источник Александра Полигистора, о котором шла речь ранее (Диоген Лаэртий VIII 27–28).
Человек – это единство, делимое и неделимое одновременно, все в себе содержащее и все из себя производящее (как в «Великом восстановлении», VI 14, 1), он двупол (как у «наассенов», V 6, 5). Все находится во всем, и одновременно нигде (как утверждают в другом месте гностики «ператы», V 17, 5) и т. д. Это довольно общие места. Интересна «пифагорейская» интерпретация Моноймом процесса творения: все порождается из единой черты-йоты, числа 10, то есть пифагорейской декады, содержащей в себе полноту всех чисел. Сообщение Ипполита заканчивается интересным высказыванием самого Монойма о «внутреннем человеке».
Три первых начала
Hippolytus, Refutatio V 12, 1–3, 17, 1–5.11
(12,1) Существует и другая ересь – ператы (ἡ Περατική)… Они утверждают, что космос един, однако имеет три части. (2) Первая часть их трехчастного деления подобна некоему единому началу, как бы великому источнику (πηγὴ μεγάλη) [всего], который может быть поделен логосом [в уме?] на бесконечное число разделов (εἰς ἀπείρους τῷ λόγῳ τμηθῆναι τομὰς δυναμένη). Первым и наиболее важным разделом, по их мнению, является триада (τριάς), первая часть которой называется «совершенное благо» и отеческое величие (μέγεθος πατρικόν). Вторая часть их триады подобна бесконечному множеству сил, возникших самостоятельно. Третья часть есть особенное (ἰδικόν). (3) При этом первая часть, будучи совершенным благом, есть нерожденное, вторая есть [благо] возникшее само по себе, а третья – рожденное (τὸ μὲν πρῶτον ἀγέννητον, ὅπερ ἐστὶν ἀγαθὸν <τέλειον>· τὸ δὲ δεύτερον [ἀγαθὸν] αὐτογενές· τὸ <δὲ> τρίτον γεννητόν). Следовательно, они явным образом вводят трех богов, три логоса, три ума и трех человек, ибо в каждую часть космоса, получившуюся в результате их деления, они помещают богов, логосы, ум, людей и все остальное…
-
(17 ,1) …Чтобы в сокращенном виде изложить все их учение, нужно добавить следующее. Все сущее – это Отец, Сын и материя. И каждое из этих начал содержит в себе бесчисленные силы. (2) Сын, или Логос, располагается посередине между (μέσος) Отцом и материей и является змеем (ὁ ὄφις), который вечно перемещается между неподвижным Отцом и движущейся материей. То он обращается к Отцу и вбирает в себя силы (τὰς δυνάμεις εἰς τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ), то, вобрав силы, поворачивается к материи,
1987, 865) склонен исправить это иначе не известное имя на Монойм Араб. Учитывая относительную распространенность этого имени в Сирии можно предположить, что в данном случае мы имеем дело с пифагорейско-гностическим псевдоэпиграфом, возможно, написанным от имени некоего малоазийского божества.
и последняя, будучи сама по себе лишена какого-либо качества и формы (ἄποιος οὖσα καὶ ἀσχημάτιστος), получает от Сына отпечатки идей ἐκτυποῦται τὰς ἰδέας), которые тот, в свою очередь, получил от Отца… (5) Как художник, не отнимая ничего у животных своею кистью, перемещает их формы на картину, так и Сын своею силой передает образы Отца (τοὺς πατρικοὺς μεταφέρει χαρακτῆρας) материи…
-
(11) В качестве пояснения они приводят анатомию головного мозга: сам мозг они сравнивают с Отцом в силу его неподвижности, а мозжечок – с Сыном из-за того, что он движется и имеет форму змеи (δρακοντοειδῆ). (12) Мозжечок беззвучно и незаметно (ἀρρήτως καὶ ἀσημάντως) втягивает в себя через шишковидную железу духовную и животворную сущность, текущую из коры головного мозга.105 Приняв эту сущность, мозжечок подобно Сыну без слов передает идеи материи, что означает, что по спинному мозгу растекаются семя и роды родившихся телесным образом. (13) При помощи такого примера им кажется удобным сообщать свои неизреченные, без слов передаваемые таинства.
Триада и Декада
Hippolytus, Refutatio VIII 8, 2–8
-
(8,2) …Называющие себя докетистами (Δοκητὰς) придерживаются следующей доктрины. (3) Первый бог подобен семечку фигового дерева, очень маленькому, но беспредельно могущественному, необъятному числом и уже содержащему в себе будущий плод; [как фиговое дерево] он убежище боящегося, укрытие нагому, прикрытие стыда, искомый плод, за которым, как он говорит, ищущий приходил трижды, и не нашел его; потому и проклял он фиговое дерево, так как не нашел на нем сладкого [искомого] плода ( Мф . 21, 18 сл.). (4) И поскольку, в соответствии с этой аналогией, бог, по их представлению, мал и одновременно велик, космос, как они думают, возник таким образом: когда ветви фигового дерева стали мягкими, появились листья, которые можно увидеть, а затем созрел плод, в котором содержится и сохраняется неопределимое и неисчислимое количество семян. (5) Получается, что первой из семени фигового дерева возникла триада: сначала ствол, то есть собственно дерево, затем листья и наконец плод, то есть сама смоква, как об этом уже говорилось. Так из первоначала возникло три эона, три начала всего остального. И об этом не умолчал Моисей, говоря, что слова бога тройственны: «тьма, облако и буря, и более не говорил» (ср. Втор . 5, 22). (6) Ибо, как он полагает, бог не добавил ничего к трем эонам, они же дали начало и поддержку всему возникшему [после них]. При этом сам бог оставался целостным и совершенно отделенным от трех эонов. Приняв на себя функцию начал творения, эоны постепенно увеличились, достигнув значительных размеров и став совершенными. (7) Совершенным же, как считается, является число десять. Так каждый их них стал равным по числу и достоинству, и в совокупности возникло тридцать эонов, каждый из которых включал в себя полноту в виде декады. Друг от друга они [не?] отличаются, каждый из триады равен другому по достоинству, различаясь лишь положением и находясь соответственно на первом, втором и третьем месте. (8) Однако положение порождает в них различие в силе, ибо ближайший к богу, как к семени, стал плодовитее других и, будучи безмерным, отмерил себе в десятикратном размере. Тот же, кто находится во втором положении, будучи непостижимым (ὁ ἀκατάληπτος), постиг себя шесть раз. Занявший третью позицию, бесконечно удаленную от своих братьев по
причине [изначального] расширения, [хотя непознаваемый, ὁ ἀνεννόητος] познал себя три раза и связал себя некой вечной связью (δεσμόν) единства.
Шесть и Семь
Hippolytus, Refutatio VI 12, 1–14, 5
(12, 1) …Сотворенный космос возник из нетварного огня. И возник он следующим образом. Сотворенный мир получил шесть корней, сущих от начала его сотворения, от [начала] этого огня. (2) Эти корни возникали из огня парами; и он называет эти корни умом и мыслью, звуком и именем, рассуждением и замыслом,106 в этих шести корнях – потенциально, а не актуально – содержится беспредельная сила. (3) Эту беспредельную силу он называет «тем, кто встал, стоит и будет стоять». Если он полностью сформировался, еще находясь в шести силах, то станет – в сущности, силе, величии и действии – тем же, что и нерожденная и беспредельная сила, ни в коей мере не ниже этой нерожденной, неизменной и беспредельной силы; (4) если же он существует в шести силах лишь потенциально и не созрел полностью, то он исчезнет и потеряется, как способность освоить грамматику или геометрию в человеческой душе. Ибо если эта сила достигает состояния определенного мастерства, она освещает дальнейшее развитие, если же не достигает, то порождает неопытность и темноту и исчезает вместе с человеком, как если бы ее никогда не было.107
-
(13,1) Из этих шести сил и седьмой, с ними связанной, в первую пару [сизигию] он соединяет ум и мысль, или небо и землю; муж смотрит сверху на жену и ласкает ее, земля же принимает ей соответствующие умные плоды, нисходящие на нее с неба. Потому, по его словам, Логос нередко говорит о том, что порождается умом и мыслью, то есть небом и землею: «Слушайте небеса, и внимай земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня» ( Ис . 1, 2). Говорящий так, по словам Симона, – это седьмая сила, которая «стала, стоит и будет стоять»; ибо он есть причина всего того, что Моисей прославил и назвал «хорошо весьма» ( Быт . 1, 31). Далее, «звук» и «имя» означают солнце и луну, а «рассуждение» и «замысел» – воздух и воду. И со всем этим слита и смешана великая и беспредельная сила – «стоящий».
-
(14 ,1) Слова Моисея: «Было шесть дней, в которые бог сотворил небо и землю, а на седьмой почил ото всех дел своих» (ср. Быт . 2, 2), Симон истолковывает в указанном ранее смысле, обожествляя при этом себя. (2) Когда же [в писании] говорится о трех днях до солнца и луны, то это указывает на ум и мысль, – то есть небо и землю, – и беспредельную седьмую силу, ибо таковы три первые силы, которые возникли раньше других. (3) Сказанное же «до всех веков породил меня» ( Притч . 8, 23.25), по его словам, означает седьмую силу. Эта седьмая сила потенциально присутствовала в беспредельной силе до начала времен. (4) Именно эту седьмую силу имел в виду Моисей, говоря: «И дух божий носился над водой» ( Быт . 1, 2), то есть дух, который включает в себя все, образ беспредельной силы, которую Симон описывает как «образ нерушимой формы, которая одна упорядочивает все остальное». (5) Ибо именно эта сила, носящаяся над водой и произошедшая из нерушимой формы, упорядочила, по его словам, все остальное.
Седмица
Hippolytus, Refutatio V 7, 20–24
-
(20) Но они утверждают, что в пользу их учения должно приводить не только свидетельства из таинств ассирийцев, но и из таковых у фригийцев относительно счастливой природы – скрытой и, однако, в то же время отверстой – вещей возникших и приходящих в существование, и тех, что еще будут, – счастливой природы, которая, говорит он, есть небесное царство, которое следует искать внутри человека. И касательно этой природы они оставили ясный отрывок, находящийся в Евангелии, озаглавленном «от Фомы», говоря так: «Ищущий меня, найдет меня среди отроков от семи лет, ибо сокрытый там, на четырнадцатый год я покажусь». Это, однако, не есть учение Христа, но Гиппократа, который использует такие слова: «Семилетний ребенок – это половина отца». (21) И вот так они, помещая производительную природу вселенной в причинное семя, и удостоверившись в [афоризме] Гиппократа о том, что семилетний ребенок – это половина отца, утверждают, что в 14 лет, согласно Фоме, он покажется. Это у них говорится о невыразимом и таинственном Логосе. (22) Они утверждают, что египтяне, которые после фригийцев, как установлено, древнее всех прочих людей, и которые, по их собственному признанию, первыми объявили всем прочим людям обряды и оргии, одновременно всех богов, а равно виды и энергии [вещей], имеют священное и благоговейное, и для непосвященных – невыразимые таинства Изиды. (23) Последние, однако, суть не что иное, как то, что она – в семислойных одеяниях и траурном платье искала и унесла – гениталии Осириса. Они говорят, что Осирис – это вода. Но природа в семи одеяниях, обернутая и облаченная в семь мантий эфирной ткани, – ибо так они именуют блуждающие звезды, аллегорически обозначая их эфирными одеяниями, – есть, так сказать, изменчивое рождение, и представлена как творение, измененное посредством несказанного и неописуемого, и непостижимого и не имеющего формы. (24) И это, говорят [наассены], есть то, о чем говорит писание: «Праведные упадут семь раз, и поднимутся снова» ( Притч . 24; Лк . 17, 4). Ведь эти падения, говорит он, суть изменения звезд, движимых тем, кто движет всё.
Декада
Hippolytus, Refutatio VIII 12,1–15,15 (с сокращениями)
-
(12 ,1) Монойм Араб (Μονόϊμος ὁ Ἄραψ) значительно удалился от мысли велеречивого поэта, решив, что человек выступил в той же роли, которая у поэта, сказавшего «Океан богов и людей прародитель» ( Илиада , XIV 201), отведена Океану. (2) Он выразил это другими словами, говоря, что Человек – это «все», то есть начало всего (ср. Илиада XIV 246), – нерожденный, неуничтожимый, вечный, – а Сын этого Человека рожден и обречен на страдания, хотя рожден вне времени, безвольно и без промысла. (3) Ибо такова, по его словам, сила этого Человека: он столь могуществен, что Сын появляется быстрее, чем мысль и воля. (4) Поэтому и написано: «Был и стал» тем, кто есть ( Быт . 1, 3; Ин . 1, 1–4). То есть, был Человек, и родился Сын, подобно тому, как был огонь, и родился свет, вне времени, безвольно и без промысла, просто оттого, что был огонь.
-
(5) Этот Человек есть единая сущность, несложная и сложная, неделимая и делимая; всему дружественная, всему враждебная, одновременно в мире и в состоянии войны с собой, неподобная и подобная, как музыкальная гармония; она содержит в
себе все, что можно поименовать или оставить без имени, произвела все вещи и породила все [сущее]. Она сама – отец и мать, два бессмертных имени. (6) В качестве примера, как он говорит, можно сравнить этого совершенного Человека с «йотой» – «единственной чертой», единой, односоставной, простой, чистым единством, не содержащим в себе иных частей, но в то же время сложной, имеющей много форм, разделений и частей. (7) Эта лишенная частей единая [монада] и есть, по его словам, многоликая, тысячеокая, тысячеименная буква «йота», – образ совершенного и невидимого Человека.
-
(13 ,1) Единая монада, как он говорит далее, единая черта – это также и декада. Ведь в одной черте, букве «йота», потенциально содержатся все числа: [один], два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Все эти разнообразные числа содержатся в простой, несоставной и единой черте «йота». (2) В этом, по его словам, смысл изречения: «Вся полнота радостно обитает» в Сыне Человека «во плоти» (ср. Кол . 2, 9). Ведь сочетания чисел приобретают свое воплощение из простой несоставной и единой черты «йоты».
-
(3) Так от совершенного Человека произошел Сын Человека, которого никто не познал. Все творение, не зная Сына, считает его рожденным женщиной. От этого сына исходят тонкие лучи, которые, достигая этого мира, несут в себе изменения и управляют творением. (4) Однако великолепие этого Сына Человека до настоящего времени не было известно людям, которые продолжали думать, что он рожден женщиной. Ничего в этом мире не произошло и не возникнет от Человека. Однако то, что происходит – не полностью, но лишь отчасти, – происходит от Сына Человека. Ведь Сын Человека – это простая йота, единая черта, движущаяся сверху, полная и все собой наполняющая, содержащая в себе все принадлежащее Человеку, то есть Отцу и Сыну Человека.
(14,1) Мир был сотворен, как сказал Моисей, в течение шести дней, то есть из шести сил, заключенных в одной черте йоты. Седьмой же – это день покоя и суббота. Из этой Гебдомады произошло все остальное: [**] земля, вода, воздух и огонь, из которых возник космос благодаря единой черте. (2) Куб, [икосаэдр], октаэдр, пирамида и другие правильные многоугольники, из которых созданы огонь, воздух, вода и земля [cf. Plato, Tim . 55 a–56 b; Timaeus Locr. 98 d (35 Marg)], происходят из простой черты йоты… [далее идет толкование места из Исхода 7, 1–11].
-
(4) Все существа рождают и приносят плод вследствие удара (πλησσόμενα), как, например, виноградные лозы. «Человек от человека происходит, – говорит Демокрит, – и отделяется ударом», так появляясь на свет.108
-
(5) Знание [гносис] всего также основано на десяти ударах, то есть десяти словах [десяти заповедях], которые не понимают те, кто ошибочно считают, что он [Сын?] рожден женщиной. Если же вы скажете, что весь закон заключен в Пятикнижии, то и оно произошло от числа «пять», которое содержится в единой черте.
-
(6) Итак, все [=космос] для тех, кто не лишен разумения, представляется таинством, новым и никогда не стареющим [ср. Евр . 8, 13] праздником, «установлением вечным»
«во все роды ваши», «пасхой Господа бога», «соблюдаемой» теми, кто в силах усмотреть «в начале» декады число десять, используемое для счета [ср. Исход 12, 11.14.17]. Ведь число «один» [с четверкой], возросшее до четырнадцати [«четырнадцатого дня сего месяца» – Исход 12, 6.8], есть также суммарное выражение единой черты, совершенное число: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
-
(7) Говоря же о периоде с 14 по 21 день, Моисей имеет в виду число семь, – те семь дней, в течение которых творился мир, а потому не должно быть закваски [ср. Исход 12, 19; далее это «толкование» книги Исхода продолжается]…
-
(9) Эти люди подобным образом истолковывают весь закон. Мне кажется, что они следуют тем из эллинов, которые объясняют все при помощи десяти [Аристотелевых категорий], таких как сущность, качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание, действие и претерпевание.
(15,1) В письме Теофрасту сам Монойм высказывается так: «[Если желаешь все постичь], перестань искать бога, [его] творение и все подобное, ищи лучше себя в себе самом, и постигни, кто в тебе владеет абсолютно всем и говорит: “ Мой разум, моя мысль, моя душа, мое тело”. Познай, откуда происходит [твоя] печаль и радость, любовь и ненависть; почему ты помимо своей воли (μὴ θέλοντα) просыпаешься и засыпаешь, отчего неожиданно возникает любовь и ненависть. И если ты рассмотришь все это внимательно, – говорит он, – ты обнаружишь в себе себя, единого и многого, как та единая черта [= буква йота], и так найдешь выход из себя».