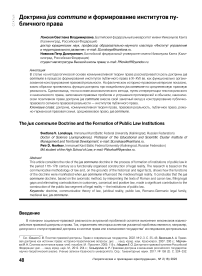Доктрина jus commune и формирование институтов публичного права
Автор: Лонская С. В., Новиков П. Д.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (16), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на методологической основе коммуникативной теории права рассматривается роль доктрины jus commune в процессе формирования институтов публичного права в XI-XVII вв. как функционально организованное конструирование правовой реальности. На фактическом историко-правовом материале показано, каким образом проявлялись функции доктрины при воздействии jus commune на средневековую правовую реальность. Сделан вывод, что на основе аксиоматического метода, путем интерпретации текстов римского и канонического права, заполнения правовых пробелов и устранения противоречий в обычном, каноническом позитивном праве доктрина jus commune внесла свой заметный вклад в конструирование публичноправового сегмента правовой реальности - институтов публичного права.
Доктрина, коммуникативная теория права, правовая реальность, публичное право, романо-германская правовая семья, средневековое право, jus commune
Короткий адрес: https://sciup.org/14128054
IDR: 14128054
Текст научной статьи Доктрина jus commune и формирование институтов публичного права
В познании социально-правовой реальности актуальной проблемой остается выяснение механизмов взаимодействия правовой доктрины и права. Так, отражением некоторых аспектов указанной проблемы являются, например, дискуссия о статусе правовой доктрины в системе права или в механизме государства1 исследования доктринальных основ правовых институтов как в прошлом, так и в настоящем2. Несомненно, формы, содержание, факторы и иные стороны воздействия правовой доктрины на формирование институтов права — далеко не исчерпанная тема юридических исследований, в том числе теоретико-исторических, основанных на различных методологических подходах.
СТАТ Ь И
Малоизученным в отечественной юридической науке является феномен jus commune . Собственно, из специально посвященных ему комплексных исследований отметим лишь работы И. А. Котляра и Д. Ю. Полдникова3. В то же время расширение представлений о jus commune представляется актуальным по ряду причин. Во-первых, это уникальное правовое явление в свое время оказало определяющее влияние на формирование романо-германской правовой семьи. Во-вторых, в последние десятилетия (с середины ХХ в.), благодаря ученым-правоведам, jus commune активно вошло в понятийно-категориальный аппарат современной юриспруденции как понятие, с помощью которого описываются отдельные стороны истории средневекового права (наряду с «рецепцией римского права», «правом ученых», «научным правом», «профессорским правом»). В-третьих, модернизированное понятие new jus commune (новое общее право) все чаще применяется для характеристики современных интеграционных процессов в праве.
Ключевым вопросом, поставленным в качестве исследовательской проблемы в настоящей статье, является выяснение того, какую роль сыграла доктрина jus commune в процессе формирования институтов публичного права. Этот аспект jus commune в основном остался вне пределов внимания российских ученых (пожалуй, за исключением И. А. Котляра4), а в зарубежной научной литературе хотя и освещен, но, судя по анализу содержания работ5, преимущественно описательно. В настоящей статье сделана попытка рассмотреть проблему в рамках современной постнеклассической юридической науки на основе феноменолого-коммуникативной методологии, которая обладает соответствующим аналитическим инструментарием, позволяющим раскрыть сущность взаимодействия доктринальных представлений и правовой реальности.
По определению А. В. Полякова, коммуникативная теория рассматривает право как «систему коммуникативных отношений, в которых право рождается из интерпретации и легитимации (признания) ценностно значимых (общезначимых и общеобязательных) текстов в интерсубъективном сознании коммуникантов»6. Этот исходный методологический тезис исследования дает ключ к пониманию того, что формирование права происходит в том числе и посредством правовой доктрины, в рамках которой интерпретируются и порождаются тексты и устанавливаются обязательные модели поведения. Такой механизм Н. В. Разуваев рассматривает как конструирование правовой реальности7. Организацию правовой реальности и ее историческую динамику обеспечивают, по его мнению, функции, которые выполняет правовая наука в своем доктринальном проявлении: селективная, смыслообразующая, прескриптивная, конститутивная и динамическая8. На конкретно-историческом примере доктрины jus commune ниже будет показано, каким образом реализовывались указанные функции в отношении средневекового позитивного права и правоприменения, создавая условия для формирования публично-правового сегмента правовой реальности — институтов публичного права.
Основное исследование
К началу развития доктрины jus commune (XI в.) говорить о делении права на частное и публичное не приходится — ни в доктринальном, ни в реальном аспектах. Римские юристы четко не отграничивали jus publicum от jus privatum или от jus civile : в Дигестах jus publicum включает элементы, например, брачно-семейного и опекунского права9, что не противоречит ульпиановскому пониманию публичного как общественно полезного10. Не уделяли
СТАТ Ь И
особого внимания различию частного и публичного права и средневековые юристы. Гражданское право (jus civile) противопоставлялось каноническому праву (jus canonicum) , но это было противопоставлением не столько частного и публичного, а сколько светского и духовного. Лишь в начале XVII в. публичное право обретает свою самостоятельность в качестве отдельной дисциплины, преподаваемой в университетах Германии11, а затем в системе понятийнокатегориального аппарата юриспруденции, разработанного пандектистами, деление права на частное и публичное становится вполне логичным. Право «цивильное», благодаря Ф. К. фон Савиньи, окончательно отождествляется с частным (Privatrecht) как гражданское право; одновременно Савиньи исходил из того, что лишь частное римское право в целом стало частью современного ему состояния права, а влияние римлян на публичное право, хотя и было, но частичное и в гораздо меньшем объеме12. Однако несмотря на введенное Савиньи ограничение и дальнейшее переосмысление понятий, не следует рассматривать jus commune только как доктрину частного права: это было бы некорректно из-за синкретичности частного и публичного в период Средневековья. В то же время уже тогда можно выделить те правовые институты, которые активно «опубличивались» (термин С. С. Алексеева13) и на которые, соответственно, воздействовала доктрина jus commune , реализуя свои функции по организации правовой реальности. Это, например, институты суверенного правителя (суверена), процессуальные институты, институты уголовного права.
Стоит вспомнить, что у истоков классического римского права стояли юристы, преследовавшие чисто практические задачи (cavere, agere, respondere) . По мере накопления юридического опыта складывалось понимание того, какие именно действия, факты или события влекут те или иные юридические последствия. Указанное понимание нашло свое оформленное отражение уже в трудах юристов классического периода, сделавших само по себе право объектом для научного изучения и осмысления. Один из важнейших римских правовых памятников — Дигесты — представляет собой сборник огромного количества казусов (правовых вопросов) и комментариев к ним авторитетных юристов того времени, предлагавших свое видение ситуации и способа ее разрешения.
Таким образом, римские юристы, вооружившись логическими инструментами Аристотеля и лингвистическими приемами толкования, «препарировали» правовую реальность, систематизировали и классифицировали весь доступный им объем правовых фактов, сведя их к типовым казусам, использование которых облегчило деятельность судей, так как, оставляя в стороне несущественные обстоятельства конкретного дела, стало доступным, как отмечено А. А. Малиновским, применение метода аналогии для подобных друг другу споров14.
На данном этапе доктрина оставалась глубоко ориентированной именно на правоприменение, нежели на правотворчество. Норма в понимании римлян была неотделима от фактов конкретного дела. По словам юриста Павла, «не из правила (regula) формируется право (jus) , но из действующего права создается правило. …Посредством правила передается краткое описание понятий и… как бы изложение существа дела, которое, если хотя бы в какой-то части недействительно, целиком перестает применяться»15. Очевидно поэтому римское право и не выработало, как видится Н. В. Разуваеву, представления о правовой норме, обладающей общей значимостью, обязательностью и повторяемой многократно16.
Полагая, что в римских источниках идея об общезначимой правовой норме содержится имплицитно, представители доктрины jus commune — глоссаторы (комментаторы) — первыми стали воспринимать все части разрозненных правоположений Юстиниана (Дигесты, Институции, Кодекс и Новеллы) как общий свод — корпус цивильного права (Corpus juris civilis) , обладающий органическим единством. Будучи для исследователей того времени таким же священным текстом, как и Библия вместе с канонами церкви, Corpus juris civilis содержал тем не менее множество противоречий и правовых лакун, устранение которых было задачей схоластов. Одновременно в каноническом праве формируется Corpus juris canonici — второй источник (и результат) доктринальной обработки.
В процессе устранения пробелов и противоречий схоластами формировался глоссовый аппарат, приобретавший самостоятельное значение и способствовавший решению проблем прикладного характера, в том числе и в публичной сфере. Через глоссы явления правовой реальности наполнялись конкретным смысловым содержанием: осуществлялась смыслообразующая функция доктрины jus commune , и это позволяло далее воздействовать на правовые институты, проявляя другие функции. Например, при формулировании пределов необходимой обороны комментаторы Бартол и Бальд фактически реализовывали также и селективную функцию доктрины, отделяя юридически релевантные факты (то есть действия в пределах необходимой обороны) от тех, которые таковыми не являются (преследуемых уголовным законом). Ими были выработаны три критерия оценки поведения лица в данных случаях:
-
— пропорциональность (необходимость превышения предотвращаемого вреда тому, который может быть нанесен жертве нападения; отражение атаки аналогичным способом; учет физической силы нападающего и др.);
-
— безотлагательность (длительность необходимой обороны равна продолжительности самого нападения; право на отпор в случае высказывания угрозы убийством в адрес жертвы (Бартол), высказываемая угроза порождает право на такой же словесный отпор (Бальд) и др.);
СТАТ Ь И
— направленность намерения лица (обязательность присутствия намерения, которое направлено исключительно на самооборону — при несоблюдении данного принципа действия лица приравниваются к акту мести; «долг отступления» для тех лиц, честь которых при этом не пострадает (в частности, представители духовенства) и др.)17.
В свою очередь, канонические юристы, действуя от имени папы римского, также осуществляли селективную функцию при разборе судебных дел, поступавших в папскую курию. Они указывали заявителям на то, какие из перечисленных в конкретных правовых ситуациях фактов имеют юридическое значение, а какие — нет. Например, при разборе дела в отношении некоего У., который имел запрещенные церковью интимные отношения с сестрой своей жены, возник вопрос о правовых последствиях действий мужа по отношению к его жене. В одной из декреталий папы римского Иннокентия III от 24 февраля 1203 г. разъяснялось, что, хотя ей и должно воздерживаться от интимных контактов с мужем вплоть до его смерти, тем не менее она вправе не подчиниться такому приказу на основании страха отступления от целомудрия, и тогда муж будет обязан под страхом Божьим отдать ей супружеский долг. Решение папского престола было основано на выведенной канонической практикой максиме, согласно которой нельзя лишать лицо права при отсутствии его вины (unde iure suo sine sua non debet culpa privari) . При этом было замечено, что если бы деяния мужа происходили при молчаливом или словесном согласии жены, то последняя потеряла бы свои супружеские права18.
Бесспорно, доктрина постигает и в то же время воздействует на правовую реальность через догму права. Это своего рода фокус, сужающий весь спектр научных позиций до необходимого минимума категорий и инструментов (описание, обобщение, определение и классификация по С. А. Муромцеву19), оперируя которыми доктрина взаимодействует с правовыми феноменами, и прежде всего — с позитивным правом. Характерной чертой правового сознания юристов тех лет была приверженность мысли о том, что подлинная юридическая реальность выражена не в практических, «земных» формах — составления документов, судебных тяжб и т. д., но в виде рационально постигаемой идеи, которая пронизывает все римские правовые источники, образуя тем самым корпус цивильного права20. В роли «позитивного права» для исследователей того периода выступал Corpus juris civilis — «писаный разум», работа с которым открывала путь к истинному, по их мнению, знанию о праве.
Признавая за аксиому связанность всего корпуса цельной идеей, объединяющей все его составные части и тем самым служащей предпосылкой к устранению коллизий и противоречий, которые обнаруживались при комментировании текста, ученые-схоласты при помощи «диалектического» метода, воспринятого через стоическую филосо-фию21 (в сущности, аксиоматического — дедуктивного метода), формулировали абстрактные понятия, осуществляли с ними различные логические операции. Широкое распространение получило составление так называемых номо-дендронов (nomodendron) — «юридических деревьев», древовидных схем, с помощью которых иллюстрировались система и соотношение различных понятий и категорий22. Понятие максим (то есть универсальных, максимальных посылок), взятое у Аристотеля (через Боэция — основного переводчика и комментатора древнегреческого философа для глоссаторов вплоть до XII в.)23, позволило логически вывести из работ римских юристов правовые принципы, послужившие аксиоматическими предпосылками для новых дедуктивных умозаключений. Тем самым реализовывалась смыслообразующая функция доктрины jus commune . Можно согласиться с А. М. Михайловым, что средневековые глоссаторы и постглоссаторы, по существу, заложили основы континентальной (романо-германской) догматики24.
Посредством догмы было осуществлено осмысление, в частности, правового статуса суверена (суверенного правителя). Основными категориями для трактовки полномочий и юрисдикции суверена выступили латинские imperium и jurisdictio 25. Через их сопоставление, классификацию и приложение к текущей для схоластов политической конъюнктуре происходило обоснование абсолютной власти императора над подчиненной ему территорией. В дальнейшем аналогичными средствами объяснялись уже суверенные права итальянских городов-государств перед императором, ставших в глазах комментаторов де-факто независимыми, но де-юре продолжавших быть подчиненными императору. Определенным компромиссом выступила идея «иерархии суверенитета»26.
СТАТ Ь И
Стоит отметить влияние догмы jus commune и на средневековые судебные процедуры, глубокая регламентация которых была предпринята каноническими юристами, благодаря чему церкви удалось внедрить в практику инквизиционный процесс27. Суть новой процедуры, оформившейся во многом благодаря работе Четвертого Латеранского собора 1215 г., заключалась в предоставлении более широких полномочий судье, который больше не был связан необходимостью выдвижения обвинения конкретным лицом. Так, соборный канон № 8 «О расследованиях» (De inquisitionibus) содержал следующие положения: «Когда... дело доходит до ушей настоятеля через вопли и молву (clamor et fama) многих, не от врагов и клеветников, а от благоразумных и честных людей, не один раз, а часто... если этого требует качество доказательств, каноническая юрисдикция должна осуществляться над обвиняемым не так, как если бы прелат был обвинителем и судьей, но как если бы суждения многих осуждали обвиняемого, а жалобы обязывали его (прелата) выполнять свои обязанности…»28. Юридическая новация здесь заключается в том, что слухи, молва или дурная репутация человека (mala fama) перестали требовать физического воплощения в лице частного обвинителя. Как замечает медиевист Ж. Тери, mala fama действовала в качестве правовой фикции (fictio legis) абстрактного обвинителя — такая конструкция позволяла судье самостоятельно принимать решение о проведении расследования по мере того, как до него доходила информация о потенциальных правонарушениях29. Помимо этого, был установлен запрет ордалий30, что повлекло за собой разработку теории доказательств31 и таких ее элементов, как стандарт доказывания (который образовывали либо признательное показание, либо надежное письменное свидетельство, либо два свидетеля от обвинения, приносивших клятву об истинности своих показаний), презумпции (вины и невиновности), а также пытки как средство получения признательных показаний (в случаях, если стандарт доказывания не выполнялся).
Напомним, что одна из основных причин усиления влияния jus commune — отсутствие действенного позитивного права и существование разрозненных и противоречащих друг другу обычаев, церковных установлений и королевских предписаний (неслучайно, что второе название знаменитого Декрета Грациана — «Согласование несогласованных канонов»). Взамен всему перечисленному доктрина jus commune смогла предложить относительно непротиворечивый и системно изложенный правовой материал, позволявший трансформировать конкретные жизненные казусы в определенную теоретико-правовую модель, которая превращала, например, двух конфликтующих из-за земельного надела феодалов в абстрактные стороны (лица), имеющие определенные права и обязанности.
Прескриптивная функция доктрины jus commune , восполняющая отсутствующие нормы права и устанавливающая правила поведения, наиболее явственно выражается в практике запросов у докторов права так называемых consilia (экспертных заключений) в тех случаях, когда суд, разрешавший спор, сталкивался с проблемой отсутствия в своем распоряжении необходимых для завершения дела правил. Устанавливалась определенная иерархия источников, в рамках которой за обычаями и позитивным правом следовало римское право и комментарии авторитетных юристов («ординарные глоссы»); за отступление от указанного порядка предусматривалась ответственность32. Примечательно, что деятельность по подготовке «ответов знатоками права» (Responsa prudentium) упоминается еще в Институциях Гая33.
Некоторым же судьям знание римского права вменялось как условие занятия своей должности: так, судьи Имперского камерального суда Священной Римской империи после 1495 г. были обязаны иметь соответствующее образование и способность давать consilia . В дальнейшем благодаря суверенам это требование утвердилось и в отношении низших территориальных судов, еще больше укрепив влияние доктрины jus commune на территории Германии34.
Поэтому вполне справедливо говорить о том, что доктрина jus commune , благодаря присущим ей признакам (системность, рациональное основание, единство основ доктрины и самостоятельность по отношению к партикуляризму тогдашнего феодального общества35) и посредством экспертных заключений докторов права, смогла воздействовать на те области общественных отношений, которые не затрагивались действующим правом.
Ярким примером приложения прескриптивной функции jus commune к развитию публичных институтов являются последовавшие за провалом заговора Пацци события. Лоренцо Медичи нанял нескольких авторитетных докторов права для составления консилий, содержащих аргументы в его пользу. Юристы были единодушны в том, что Сикст IV (папа римский и политический оппонент Лоренцо Медичи) не только нарушил основы канонической процедуры
(составляющие цивильное право), но посягнул на выводимые из естественного права нормы и, прежде всего, на те, которые гарантируют обвиняемому лицу слушание его дела в суде. По выражению К. Пеннингтона, «право подсудимого на изложение своего дела в суде настолько вошло в юридическую мысль, что даже абсолютная власть суверена не могла его вытеснить»36. Естественная природа данного права стала неоспоримым положением в глазах новой школы юснатуралистов, чьи работы, посвященные состязательному и равноправному судебному процессу, во многом покоились на достижениях доктрины jus commune 37.
СТАТ Ь И
Принимая изложенную Н. В. Разуваевым концепцию правотворческого влияния доктрины через правоприменительную деятельность юристов-практиков, судебную практику и законотворчество38, несложно увидеть, каким образом jus commune определила облик правовой реальности своего времени, то есть реализовала конститутивную функцию доктрины. Благодаря аксиоматическому методу доктрине jus commune удалось сконструировать опирающуюся на него логическую систему континентального права (дедуктивную, от общего — к частному). Собственно, доктрина jus commune «создала», то есть сконструировала правовую реальность фактически «с нуля» — по крайней мере, с точки зрения юридической науки, и основные аспекты этого конструирования были рассмотрены выше при характеристике селективной, смыслообразующей и прескриптивной функций.
Снабдив юриспруденцию догмой, то есть специфическим языком, приемами юридической техники, конструкциями, понятиями и т. д., jus commune оказала большую услугу законотворчеству, иллюстрацией чему является, например, история уголовного права Германии.
Популярные издания юридических работ итальянских глоссаторов на тему общих понятий уголовного права на немецком языке (среди прочих — так называемое «Исковое зерцало» (Klagspiegel) от 1436 г.) побудили местных феодалов к активной разработке собственных уложений, регулирующих основы уголовного права. Так появились Нижнеавстрийское уголовное судебное уложение 1514 г. (серьезно переработанное в 1540 г.), Уголовно-судебное уложение императора Максимилиана для городов Тироль (1499) и Радольфцель (1506), а также Вормская реформация 1498 г.39 Крупнейшим образчиком римского влияния на средневековое немецкое уголовное право является «Каролина» императора Карла V (1532) и ее предшественники — Бамбергское уложение 1507 г. («Мать Каролины», Mater Carolinae) и Бранденбургское уложение 1516 г. («Сестра Каролины», Soro Carolinae). Они были в значительной степени основаны на «Устрашающих книгах» (Libri terribles) из Свода Юстиниана, но переработанных итальянскими глоссаторами40. Одним из важных нововведений, появляющихся уже в Бамбергском уложении, выступает закрепление инквизиционного типа уголовного преследования, взятого из римского канонического права, и замена им старого, основанного на частном обвинении41.
Таким образом, мы видим, что доктрина jus commune оказывала конституирующее воздействие на всю правовую реальность (и прежде всего, на интересующие нас институты публичного права) через отдельные сегменты последней (правоприменительная практика, законотворчество).
Динамическая функция доктрины jus commune , которая «свидетельствует о наличии у доктрины созидательной силы, позволяющей ей преобразовывать правовую реальность при помощи совершенствующихся методов получения новых знаний, не изменяя при этом своих фундаментальных основ»42, проявляется, по нашему мнению, не только на пути всего ее «жизненного цикла» (XI–XVI вв.), но и позже. Средневековые глоссаторы задали магистральный путь развития юридической доктрины в рамках романо-германской правовой семьи. Последующая динамика развития доктринального поля свидетельствует, что новые научные школы (гуманистическая, юснатурализма, историческая, «юриспруденция понятий», пандектистика) стали логическим развитием наработок, предложенных схоластическим правоведением. А вместе с трансформацией доктрины трансформировалась и правовая реальность.
Выводы
Правовая доктрина jus commune оказала воздействие не только на частное, но и публичное право и не должна рассматриваться исследователями только как частноправовая. На основе аксиоматического метода, путем интерпретации текстов римского и канонического права, заполнения правовых пробелов и устранения противоречий в обычном, каноническом позитивном праве, доктрина jus commune конструировала правовую реальность и обусловила ее историческую динамику, оказав самое серьезное влияние на становление и развитие романо-германской правовой семьи. Это воздействие проявилось в реализации селективной, смыслообразующей, прескриптивной,
СТАТ Ь И
конститутивной и динамической функций доктрины на средневековую правовую реальность и способствовало формированию ее публично-правового сегмента — институтов публичного права.
Сделанные выводы дают основание полагать, что дальнейшие исследования в области истории воздействия доктрины jus commune на правовые институты позволят получить новые данные для уточнения научной картины процессов конструирования правовой реальности и их теоретико-правового моделирования.
Список литературы Доктрина jus commune и формирование институтов публичного права
- Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: НОРМА, 2001. 752 с.
- БерманДж. Г. Западная традиция права: эпоха формирования. 2-е изд. М.: ИНФРА-М — НОРМА, 1998. 624 с.
- Бошно С. В. Понятие правовой доктрины. Право и современные государства, 2022. № 2-3. С. 35-45.
- Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права: историко-теоретические вопросы: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. 200 с.
- Гильмуллин А. Р. Правовая доктрина в механизме российского государства: научно-теоретический анализ. Ученые записки Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2017. № 159 (2). С. 324-332.
- Дигесты Юстиниана / пер. с латинского; отв. ред. Л. Л. Кофанов. Т. I. М.: Статут, 2002. 584 с.
- Дигесты Юстиниана / пер. с латинского; отв. ред. Л. Л. Кофанов. Т. VII. Полутом 2. М.: Статут, 2005. 564 с.
- Зацепин А. М. Дополнительная квалификация преступления: доктрина и практика: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2019. 490 с.
- Институции Гая. С объяснительным словарем. Вып. 1-4. СПб.: Тип. M. М. Стасюлевича, 1887. 320 с.
- История государства и права зарубежных стран: учеб. для вузов: в 2 ч. Ч. 1. Под общ. ред. О. А. Жидкова и Н. А. Крашенинниковой. 2-е изд. М.: НОРМА, 2004. 624 с.
- Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V. Алма-Ата, 1967. 152 с.
- Коровин К. С. Доктринальные основы формирования советского конституционализма в 1917-1918-е гг.: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2022. 212 с.
- Котляр И. А. Jus commune как средневековая модель общеевропейского правопорядка (XI-XIV в.): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 214 с.
- Мадаев Е. О. Доктрина в правовой системе Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 254 с.
- Малиновский А. А. Римская юриспруденция: методология и дидактика. Российское право: образование, практика, наука. 2017. № 4 (100). С. 29-35.
- МарченкоМ. Н. Система источников права: учеб. пособие. М.: Проспект, 2005. 115 с.
- Михайлов А. М. Основные этапы генезиса континентальной юридической догматики. Право и политика, 2012. № 11. С. 1875-1884.
- Муромцев С. А. Что такое догма права? Юридический вестник, 1884. № 4. С. 759-765.
- Полдников Д. Ю. Доктрины договорного права Западной Европы XI-XVIII вв.: учеб. пособие для студентов факультета права. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. 366 с.
- Полдников Д. Ю. Научная доктрина jus commune как формальный источник права в Западной Европе в XII— XVIII веках. Право. Журнал Высшей школы экономики, 2013. № 1. С. 64-80.
- Полдников Д. Ю. Формирование учения о договоре в правовой науке Западной Европы (XII-XVI вв.): дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2016. 571 с.
- Поляков А. В. Принцип взаимного правового признания: российская философско-правовая традиция и коммуникативный подход к праву. Труды института государства и права РАН, 2021. Т. 16. № 6. С. 39-101.
- Разуваев Н. В. Юридическая доктрина как средство конструирования правовой реальности. Теоретическая и прикладная юриспруденция, 2019. № 1. С. 5-22.
- Савиньи Ф. К. фон. Система современного римского права. Т. I. М.: Статут, 2011. 510 с.
- Честнов И. Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Эпистемология государства и права: учеб. пособие. СПб.: СПб ИВЭСЭП, 2004. 63 с.
- BarL. von. Handbuch des Deutschen Strafrechts. Berlin: Weidmann, 1882. 361 s.
- Bónis P. The Self-Defense in the Tripartitum and the European Jus Commune. Journal on European History of Law, 2014. No. 5 (2). P. 80-84.
- Canning J. P. Law, Sovereignty and Corporation Theory, 1300-1450. The Cambridge History of Medieval Political Thought. J. H. Burns (ed.). Cambridge University Press, 1995. P. 454-476.
- Decrees of The Ecumenical Councils, Vol. 1 (Nicaea I — Lateran V). SJ N. P. Tanner (ed.). Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1990. 655 p.
- Die Register Innocenz III. 6: 6. Pontifikatsjahr, 1203/1204, Texte und Indices. Vienna: Verlag des Österreichischen Akademie des Wissenschaften, 1995. 485 s.
- FraherR. M. The Theoretical Justification For the New Criminal Law of the High Middle Ages: "Rei Publicae Interest Ne Crimina Remaneant Impunita". University of Illinois Law Review. 1984. No. 3. P. 577-595.
- Johnston D. The General Influence of Roman Institutions of State and Public Law. The Civilian Tradition and Scots Law. Aberdeen Quincentenary Essays. Ed.: D.L. Carey Miller, R. Zimmermann. Berlin: Duncker & Humblot, 1997. P. 87-101.
- MarongiuA. Legislatori e giudici di fronte all'autorita dei giuristi. Studi di Storia e Diritto in onore di E. Besta. T. 3. Milano: Giuffre, 1939. P. 441-464.
- Pennington K. Due Process, Community, and the Prince in the Evolution of the Ordo iudiciarius. Revista internazionale di diritto commune, 1998. No. 9. P. 9-47.
- Pennington K. The Prince and the Law 1200-1600: Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition. University of California Press, 1993. 352 p.
- SchmoeckelM. Humanität und Staatsraison: Die Abschaffung der Folter in Europa und die Entwicklung des gemeinen Strafprozeß- und Beweisrechts seit dem hohen Mittelalter. Köln: Böhlau, 2000. 668 s.
- SteinP. Regulae Iuris. From Juristic to Legal Maxims. Edinburg: University Press, 1966. 179 p.
- Van Damme R. The Presumption of Innocence: An Antidote for Sacrificial Venom? Patterns of Girard's "Primitive" Sacred in Late Medieval and Early Modern Criminal Law. Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2016. No. 45 (1). P. 10-41.
- West's Encyclopedia of American Law. Ed.: J. Lehman, S. Phelps. Vol. 5 (2 ed.). Detroit: Thomson/Gale, 2005. 526 p.
- Wieacker F. Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967. 659 s.