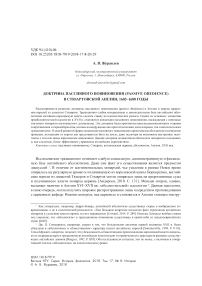Доктрина пассивного повиновения (passive obedience) в стюартовской Англии, 1603-1688 годы
Автор: Журавлев Александр Викторович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается развитие доктрины пассивного повиновения (passive obedience) в Англии в период правления королей из династии Стюартов. Традиционно слабая материальная и законодательная база английского абсолютизма заставила королевскую власть сделать ставку на идеологические рычаги. Одним из основных элементов проабсолютистской идеологии в XVII в. становится концепция пассивного повиновения, насаждаемая с помощью лояльного монархии англиканского духовенства. Эта доктрина была противопоставлена революционным теориям сопротивления и тираноборчества, взятым на вооружение как протестантскими диссентерами, так и католическими «рекюзантами». В своей развитой форме концепция пассивного повиновения предполагала абсолютное подчинение приказам, исходящим от короля как представителя Бога на земле, даже несмотря на возможное внутреннее несогласие с тем или иным королевским повелением. Данная доктрина должна была обеспечить покорность подданных и, как следствие, более эффективное управление английским королевством.
Пассивное повиновение, стюарты, англиканская церковь, абсолютизм, англия, xvii век
Короткий адрес: https://sciup.org/147220003
IDR: 147220003 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-8-20-29
Текст научной статьи Доктрина пассивного повиновения (passive obedience) в стюартовской Англии, 1603-1688 годы
Исследователи традиционно отмечают слабую социальную, административную и фискальную базу английского абсолютизма. Даже сам факт его существования является предметом дискуссий 1. В отличие от континентальных монархий, чье усиление в раннее Новое время опиралось на регулярную армию и оплачиваемую из королевской казны бюрократию, английские короли из династий Тюдоров и Стюартов могли опираться лишь на прерогативные суды и подчиненную власти монарха церковь [Андерсен, 2010. С. 131]. Меньше споров, однако, вызывает наличие в Англии XVI–XVII вв. «абсолютистской» идеологии 2. Данная идеология, в свою очередь, могла получить широкое распространение лишь посредством проповедования с церковных кафедр. Именно контроль над церковью и становится в Англии главным инстру- ментом насаждения абсолютистской идеологии и именно в идеологической сфере английский абсолютизм добьется максимальных успехов.
Краеугольным камнем идеологической доктрины покорной стюартовским монархам англиканской церкви стала доктрина пассивного повиновения. Происходя из средневековой христианской теологии, данная доктрина вновь актуализируется в эпоху Реформации и становится одной из основ политической теории протестантских церквей. Стремясь отмежеваться от обвинений в призывах к бунту, Лютер и Кальвин подчеркивали необходимость подчинения правящим в той или иной стране государям, даже если они и не поддерживали проведение церковной реформы. При этом отцы Реформации опирались на послание апостола Павла к римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога… противящийся власти противится Божию установлению» (Рим. 13: 1–2) [Кальвин, 1999. C. 488; Лютер, 1994. С. 133]. «Слово Божие, – утверждает Кальвин в «Наставлениях к христианской вере», – требует от нас повиновения не только тем государям, которые правильно исполняют свое служение и свой долг, но и вообще всем вышестоящим, хотя бы эти люди менее всего исполняли то, что подобает их званию» [1999. C. 489]. Лютер идет еще дальше: признавая, что среди государей много «тиранов», преступающих границы светской власти и посягающих на контроль над духовной сферой, он все же призывает не сопротивляться их действиям силой, а пострадать подобно ранним христианским мученикам. По его мнению, «злу следует не противиться, а претерпевать его» [1994. С. 151]. Тем самым теоретики Реформации актуализировали апелляцию к доктрине божественного происхождения власти в раннее Новое время и поначалу, как полагает К. Скиннер, придерживались доктрины пассивного повиновения [Skinner, 1978. P. 214].
Проведение в Англии королевской реформации определило развитие официальной англиканской теологии именно в направлении, намеченном в ранних сочинениях Лютера и Кальвина. Такова, например, позиция епископа Стивена Гардинера, выступившего в 1535 г. с трактатом «Об истинном повиновении» в защиту установления королевского контроля над церковью. Утверждая превосходство королевской власти над церковью в Англии по отношению к власти «епископа Рима», Гардинер вместе с тем утверждает и ее абсолютный, неограниченный характер, основанный непосредственно на божественной воле. «Истинное повиновение» – высочайшая из христианских добродетелей, а все христиане обязаны повиноваться тому, кого Господь наделил властью и повелел почитать. В том, что королю следует повиноваться безусловно, никто в Англии никогда и не сомневался, – уверен Гардинер, – а «неповиновение должно караться смертью, в соответствии как со старинным, так и новым законодательством» [Gardiner, 1535. P. 4, 12–13].
В своей зрелой формулировке теория пассивного повиновения предполагает сочетание двух компонентов: непротивление верховной власти и необходимость понести наказание за невыполнение сомнительных с религиозной или политической точки зрения приказаний монарха [Bohun, 1689. P. 2]. Одним из первых термин «пассивное повиновение» применительно к обязанностям подданных по отношению к королю использовал священник Роберт Сибторп в проповеди 22 февраля 1626 г. С точки зрения Сибторпа, пассивное повиновение необходимо, если государь приказывает исполнить что-то, что противоречит либо божественному закону, либо естественному, либо же просто неисполнимо в силу физических причин – т. е. в ситуации, когда правитель повелевает исполнить нечто, что «подданный исполнить не может». В таком случае подданные должны покорно принять наказание «без сопротивления, проклятий и поношений» [Sybthorpe, 1627. P. 13; Кондратьев, 2012. C. 213]. О «пассивном» и «активном» повиновении применительно к политическим вопросам упоминал и Роберт Филмер в своем трактате «Патриарх» [Filmer, 1680. P. 6], написанном предположительно в конце 1620-х – начале 1630-х гг.
В историографии термин «пассивное повиновение» используется для обозначения одного из элементов абсолютистской идеологии на протяжении всего периода правления династии Стюартов уже с XIX в. Известный английский историк-виг XIX столетия Томас Маколей называл доктрину пассивного повиновения «отличительным знаком» англиканской церкви
[Maccauley, 1901. P. 4], а один из пионеров исследования доктрины «божественного права» Джон Фиггис полагал, что тезис о непротивлении и пассивном повиновении является одним из четырех необходимых компонентов теории «божественного права» в том виде, в каком она была распространена в Англии XVI–XVII вв. [Figgis, 1914. P. 6] 3.
Фундаментальное кальвинистское образование первого английского монарха из династии Стюартов Якова I, полученное им в пресвитерианской Шотландии, означало, что король был хорошо знаком и с политической теорией реформационных церквей. В бытность свою шотландским королем, он, однако, использовал эти знания скорее для борьбы с чрезмерным радикализмом кальвинистских пасторов и для нейтрализации поддерживаемой ими теории сопротивления. Теория божественного права, изложенная в сочинениях Якова I, сложилась много ранее занятия им английского престола, в ответ на сочинения его наставника Джорджа Бьюкенена и других пресвитериан, стремившихся поставить королевскую власть под контроль теории народного суверенитета, а также под контроль собственной политической группировки [Smuts, 2003. P. 275]. Поскольку вероятность восстания против королевской власти по религиозным соображениям была всегда высока, то своей главной задачей Яков I видел внушение повиновения подданных королю, даже несмотря на возможные разногласия на почве религии. Именно теория пассивного повиновения могла стать подходящим компромиссом в подобной ситуации.
Положение Якова лишь усугубилось, когда он унаследовал английский престол, а с ним и ирландскую корону. Теперь он стал монархом в трех королевствах с различными религиями. Именно поэтому доктрина пассивного повиновения могла стать универсальным инструментом внушения лояльности королю трех столь разнящихся в религиозном отношении стран. Ситуацию осложняло еще и то, что в самой Англии имелись как пресвитериане, так и католики, стремившиеся к расширению влияния собственной религиозной идеологии. В 1603 г., сразу по занятии английского престола, новый король переиздал свое сочинение, написанное несколькими годами ранее, – «Истинный закон свободных монархий» – основной темой которого как раз и являлось обоснование должного повиновения суверену. Хотя Яков и не употреблял здесь словосочетание «пассивное повиновение», он фактически обосновывал именно эту доктрину. Народ должен оказывать повиновение королю как «представителю» (lieutenant) Бога на земле, «повинуясь всем его приказам, за исключением направленных напрямую против Бога, как приказам служителя (minister) Бога, признавая в нем судью, поставленного Богом… но ответственного только перед Богом». В случае если король добр, то подданные должны молить Господа о том, чтобы он оставался таковым и далее, а когда он зол – молиться о его исправлении, «следуя за ним и повинуясь его законным приказам, воздерживаясь от исполнения незаконных». В последнем случае подданные могут попытаться избежать его гнева, но не должны сопротивляться, если он все же их настигнет. Если же это произойдет, необходимо вспомнить о духе мученичества, столь характерного для раннехристианских церквей [James I, 1603. P. С1].
Сформулированная подобным образом доктрина пассивного повиновения должна была служить важным моментом в самоопределении англичан относительно католической церкви и власти Рима. В период правления Стюартов эта тема впервые активно прозвучала в 1606 г. после неудачи Порохового заговора, когда католики пытались уничтожить короля в парламенте. Яков I совершенно справедливо усмотрел корни этого происшествия в распространении католиками идей договорного происхождения власти и, как следствие, ее условного характера. После заговора специально с тем, чтобы обеспечить лояльность католических подданных английского короля, была разработана клятва верности, напрямую отрицавшая доктрину, согласно которой монарха, отлученного от церкви папой римским, мог убить любой из его подданных [Varieties of British…, 1993. P. 87]. Кроме того, Яков I посчитал необходимым заручиться более надежной поддержкой англиканского духовенства. В том же году было проведено собрание высших чинов англиканской церкви, на котором в качестве канонов, т. е. фактически законов, обязательных к исполнению английскими священнослужителями, были закреплены положения, отрицающие возможность какого-либо насильственного противодействия власти правящего монарха. Собрание духовенства напрямую осудило любые теории, утверждающие, что власть и юрисдикция находились первоначально в народе, а государственные институты были учреждены в результате выраженного общественного согласия, а не по божьему произволению. Согласно принятым канонам, народ никогда не имел полномочий по выбору монарха, а власть всегда проистекает только от Бога [Bishop Overall’s…, 1690. P. 2, 8, 21]. Ложными были объявлены доктрины, обосновывавшие возможность словесного выражения недовольства действиями государей или любых членов администрации, дозволенности поднимать против них оружие или лишать королей трона и тем более предпринимать попытки цареубийства [Ibid. P. 25–26]. Особо отмечалось и подчиненное по отношению к монарху положение священнослужителей, а также примат гражданской власти над церковной [Ibid. P. 34]. Доктрина непротивления была, таким образом, утверждена в качестве официального учения англиканской церкви и как таковая должна была проповедоваться в каждом приходе.
Тема католической угрозы звучала также в проповедях английского клирика и поэта начала XVII в. Джона Донна. Отличительной чертой англиканского духовенства ему представлялась большая готовность подчиняться определенным правилам и канонам. Подобная приверженность установленному порядку, по мысли Дж. Донна, и есть истинное послушание. Католические же священники отходили от этого правильного образа мысли и действия и позволяли себе нарушать как божественный, так и государственный закон и даже оправдывать цареубийство [Кондратьев, 2013. С. 71].
Взойдя на престол в 1625 г., Карл I не только поддержал подобные настроения духовенства, но и способствовал дальнейшему развитию этой идеологии. Во второй половине 1620-х гг. на фоне общественного недовольства, вызванного политикой принудительных займов, король дал прямое указание священникам активнее проповедовать покорность и необходимость подчиняться фискальным притязаниям короны [Аверьянова и др., 2013. С. 148]. В результате была развернута масштабная идеологическая кампания, в ходе которой с проповедями на тему должного повиновения королю выступили многие видные представители англиканской церкви, включая Роберта Сибторпа, Исаака Бэргрейва, Уильяма Лода, Роджера Мэнверинга и др. [Кондратьев, 2012. С. 213].
Наиболее полно и обоснованно, с многочисленными отсылками как к раннехристианским, так и античным авторам, идеи божественности королевской власти и необходимости подчинения ей во всех случаях были озвучены Р. Мэнверингом в двух проповедях, прочитанных 4 и 29 июля 1627 г. в присутствии самого короля [Кондратьев, 2011. С. 38–39]. Насколько известно, Карл I с большой симпатией отнесся к тезисам, высказанным в ходе проповедей. Королевская власть, согласно Мэнверингу, является первейшей среди властей, наимощнейшей и не подчиненной никакой другой: «Короли стоят надо всеми, над ними не стоит никто: ни один человек, ни какая-либо группа людей, ни какой-либо ангел, ни их собрание… Королевская власть высочайшей природы, и нет никакой власти в природе или церковной иерархии, которая могла бы ее ограничивать… власть эта не только человеческая, но и сверхчеловеческая (superhumane) и даже не меньше божественной власти» [Maynwaring, 1627а. P. 8–10].
По мнению Мэнверинга, вся полнота власти изначально присутствует только в Боге и передается им не людям, а непосредственно и исключительно королю. Соответственно, короля не может ограничивать ни общественное согласие с государственной властью, ни местные обычаи, ни корпоративные или национальные законы, ни даже законы международные (law of the nations) [Ibid. P. 13]. Никто не имеет права ставить под сомнение королевские повеления, поскольку они – это повеления самого Бога. Короли должны, конечно, повиноваться закону божественному, и в этом заключается единственное ограничение их власти. Если даже король приказывает совершить что-либо противоречащее законам страны, то подданные все равно не имеют права высказывать неудовольствие или тем более оказывать ему открытое сопротивление, поскольку законодательная воля короля более высокой природы [Ibid. P. 19]. Все живое обязано повиновением своему создателю. Поскольку он является создателем и королевской власти, то долг повиновения обязателен и по отношению к королям. Господь является свидетелем и соучастником клятвы верности, даваемой королю, и, следовательно, соблюдать верность монарху столь же необходимо, как и верность самому Богу [Maynwaring, 1627б. P. 12– 13]. И наконец, Мэнверинг напрямую приравнивал неповиновение королю к неповиновению Богу [Ibid. P. 23]. В своих проповедях Мэнверинг, таким образом, изложил оба компонента доктрины пассивного повиновения и проиллюстрировал их ссылками на текущую политическую ситуацию. Парламент резко негативно отреагировал на проповедь подобных идей и начал процесс об импичменте священника. Король же приказал напечатать проповеди в виде брошюры, озаглавленной «Религия и верность», и назначил Мэнверинга епископом, дав тем самым королевскую санкцию всему им сказанному [Snapp, 1967. P. 221–230].
В 1640 г., после начала епископских войн с шотландцами и одновременно с созывом Короткого парламента было созвано также собрание духовенства для ратификации мероприятий по реформированию англиканской церкви, предусмотренных архиепископом Лодом. Это собрание, кроме того, должно было утвердить и ряд новых канонов, обязательных к исполнению всеми священниками в подвластных Карлу I королевствах. На фоне открытого неповиновения парламента требованиям короля по вотированию субсидий, конвокация приняла ряд положений, призванных подтвердить актуальность доктрины божественного права и непротивления в качестве фундаментальной основы учения англиканской церкви: «Высочайшее и священное звание короля основывается на божественном праве, являясь прямым повелением самого Господа, основывается на первоначальных законах природы и явно установлено текстами как Старого, так и Нового Заветов». Согласно канонам, верховная власть вручена королям непосредственно Богом с тем, чтобы они осуществляли управление в подвластных им владениях людьми всех рангов, как светских, так и духовных, и наказывали «мирским мечом всех упрямцев и злодеев» [Constitutions and Canons…, 1640. P. 7]. Королю принадлежит полная власть над церковью. По божественному же соизволению короли наделены властью взимать налоги, а подданные обязаны их уплачивать. Отмечалось также, что подобная обязанность ни в коем случае не есть покушение на собственность подданных. Напротив, налоги и поддержание собственности идут рука об руку и немыслимы друг без друга. Если подданные короля поднимают оружие против его власти, вне зависимости «для защиты или для нападения», то они противятся властям, от Бога установленным, и подвергают свои души риску вечного проклятия и осуждения после смерти. При этом отрицалась возможность не только активного, но и пассивного неповиновения [Ibid. P. 8]. Неудивительно, что Долгий парламент отменил постановления собрания духовенства вскоре после начала своей работы.
Годы революции в значительной степени подорвали позиции доктрины пассивного повиновения, поскольку на практике восторжествовали прямо противоположные принципы 4. С восстановлением монархии в 1660 г. произошло и возвращение принципов непротивления в качестве основы государственной идеологии. В начальный период Реставрации даже многие будущие критики абсолютизма, такие как, например, Джон Локк, поддерживали насаждение церковного единообразия и внушение необходимости абсолютной лояльности царствующему монарху [Kraynak, 1980. P. 53]. В 1675 г. главный министр Карла II граф Дэнби даже попытался закрепить доктрину непротивления в качестве принципа конституционного устройства. На обсуждение палат парламента правительством был внесен новый вариант Акта о присяге, предусматривавший дачу клятвы в отказе от любого сопротивления королю, а также от попыток вносить изменения в устройство церкви и государства [Coward, 2014. P. 329]. Однако оппозиции, при активном участии будущего лидера вигов графа Шефтсбери, удалось провалить принятие этого билля.
Особенно активно доктрина пассивного повиновения эксплуатировалась в годы торий-ской реакции, последовавшие за тяжелым политическим кризисом, вызванным борьбой вигов за Билль об исключении в 1679–1681 гг. В эти годы, отмечал Маколей, непротивление власти проповедуется в каждой английской церкви: «Доктрина непротивления власти была страшно дорога английским священникам… Это была их любимая тема… Они проповедовали на тему доктрины пассивного повиновения, по меньшей мере, так же часто и столь же ревностно, как и на тему Троицы или искупления» [Maccauley, 1901. P. 4]. Концепция пассивного повиновения была ключевой для торийской партии в отстаивании прав Якова на престол, а позднее и для якобитов, утверждавших незаконность дачи клятвы верности новым монархам после Славной революции [Sensabaugh, 1949. P. 20]. В последнее четырехлетие правления Карла II она превратилась в главный идеологический инструмент стюартовской монархии.
Среди прочих на поприще пропаганды покорности своей проповеднической деятельностью отличился Джордж Хикс, назначенный в 1681 г. королевским капелланом. Согласно Хиксу, короли ни много ни мало являются «мелкими богами, правящими на земле, подобно тому, как Михаил и Гавриил правят ангелами на небесах по прямому поручению Бога. Их суверенная власть – это образ Его суверенной власти, их величие – подобие Его величия, их царство – копия Его царства. Они занимают высшее положение на земле, подобное тому, какое Он занимает на небесах. Они не получают свою власть от народа… как и Он не получает ее от своих творений, но лишь от Него одного получают они власть, они Его наместники и доверенные лица. Почести или бесчестье, творимые по отношению к ним, творятся по отношению к самому Богу» [Hickes, 1682. P. 7]. Для подданных любого правительства является грехом оказывать насильственное сопротивление законным властям, каким бы ни был повод, пусть это даже вопросы религии.
По мнению Хикса, «пассивное повиновение или непротивление является двойной обязанностью христианских подданных, поскольку они не могут поднять меч против своего суверена без того, чтобы противиться Богу… поскольку Бог, которому принадлежат право отмщения и наказания, сделал суверена отмстителем злодеяний своих подданных, а не подданных отмстителем злодеяний правителя». В подобном случае в каждом государстве было бы два суверена. Тиранов же Господь приберег для того, чтобы наказать их собственноручно, подданные же могут прибегать лишь к помощи «артиллерии молитв и слез». Кому-то, продолжал Хикс, данная доктрина может показаться жестковатой, но поскольку сопротивление подданных властям приносит людям значительно большие страдания, чем деяния самых злобных тиранов, с необходимостью следует вывод, что «доктрина пассивного повиновения основана на высочайшем расчете и что необходимо славить мудрость и благость Господа, запретившего людям прибегать к лекарству, гораздо худшему, чем сама болезнь» [Ibid. P. 26–28].
Данная доктрина оставалась основной идеологемой и после вступления на престол Якова II. В 1685 г. Эдмунд Бохун переиздал «Патриарха» Филмера, предпослав ему введение собственного авторства, в котором, в частности, выступил с опровержением критики Филмера сторонниками вигов и в очередной раз сформулировал доктрину пассивного повиновения: «Вне всякого сомнения, государи не должны злоупотреблять своей властью, но если они все же злоупотребляют ей, то их подданные не смеют браться за оружие для того, чтобы отомстить за свои неурядицы. Какой весомой ни была бы причина, проблемы это не решит, а сами они превратятся в мятежников, поскольку никогда Бог не наделял население или отдельного подданного полномочиями судить о действиях высшей власти, под которой они живут» [Bo-hun, 1685. Ch. II. 52].
После Славной революции 1688 г. доктрина пассивного повиновения потеряла свои позиции монопольной официальной идеологии. Многие англиканские священники, проповедовавшие непротивление в годы торийской реакции, отказались принести присягу на верность новому королю. Более того, новый режим в значительной степени опирался на вигов, для которых доктрина пассивного повиновения давно стала мишенью ожесточенной критики. Сам же факт революции открыл возможности для обоснования легитимности нового режима с прямо противоположных позиций, т. е. с опорой на идею сопротивления тираническому правлению, теорию естественных и неотчуждаемых прав, общественного договора, а также ограниченного «старинной конституцией» характера английской монархии.
Список литературы Доктрина пассивного повиновения (passive obedience) в стюартовской Англии, 1603-1688 годы
- Аверьянова Е. В., Баязитова Г. И., Васильева Ж. Ю., Исаева Е. В., Кондратьев С. В., Кондратьева Т. Н., Новокрещенных Е. В., Соколовская И. В. Проблема «послушания» (obedience) в английской конфессиональной мысли 1620-х гг. // Вестн. ТюмГУ. Гуманитарные исследования. Философия. 2013. № 10. С. 146-153.
- Андерсен П. Родословная абсолютистского государства. М.: Территория будущего, 2010. 511 с.
- Кондратьев С. В. «Все могут короли, все могут короли…?» (Теория и практика в предреволюционной Англии). IV: Голоса Роджера Мэнверинга // Европа: международный альманах. Тюмень, 2011. Вып. 10. С. 38-74.
- Кондратьев С. В. Джон Донн о порядке, послушании и проповеди // Вестн. ТюмГУ. Гуманитарные исследования. История. 2013. № 2. С. 67-72.
- Кондратьев С. В. Парламентарии против Роджера Мэнверинга, или «свобода» и «право» versus «послушание» и «прерогатива» // Изв. высших учебных заведений. Правоведение. 2012. № 1. С. 207-220.
- Хеншелл Н. Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени. СПб.: Алетейя, 2003. 272 с.
- Burgess G. The Divine Right of Kings Reconsidered // The English Historical Review. 1992. Vol. 107. No. 425. P. 837-861.
- Coward B. The Stuart Age: England, 1603-1714. London: Routledge, 2014. 587 p.
- Figgis J. N. The Divine Right of Kings. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1914. 406 p.
- Kraynak R. P. John Locke: From Absolutism to Toleration // The American Political Science Review. Vol. 74. No. 1. Mar., 1980. P. 53-69.
- Maccauley T. B. The History of England from the Accession of James II. Boston; New York: Houghton, Mifflin and Co, 1901. 589 p.
- Sensabaugh G. F. Milton and the Doctrine of Passive Obedience // Huntington Library Quarterly. Vol. 13. No. 1. Nov., 1949. P. 19-54.
- Skinner Q. The Foundations of the Modern Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. Vol. 2: The Age of Reformation. 414 p.
- Smuts M. Political Thought in Early Stuart Britain // A Companion to Stuart Britain / Ed. by B. Coward. Oxford, 2003. P. 271-289.
- Snapp H. F. The Impeachment of Roger Maynwaring // Huntington Library Quarterly. Vol. 30. No. 3. May, 1967. P. 217-232.
- Sommerville J. P. Royalists and Patriots: Politics and Ideology in England, 1603-1640. Harlow: Longman, 1999. 304 p.
- The Varieties of British Political Thought 1500-1800 / Eds. J. G. A. Pocock, G. J. Schochet, L. G. Schwoerer. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993. 372 p.