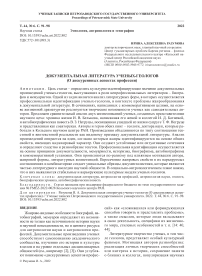Документальная литература ученых-геологов (о дискурсивных аспектах профессии)
Автор: Разумова Ирина Алексеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 6 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - определить культурно-идентифицирующее значение документальных произведений ученых-геологов, выступающих в роли непрофессиональных литераторов - биографов и мемуаристов. Одной из задач является анализ литературных форм, в которых осуществляется профессиональная идентификация ученых-геологов, в контексте проблемы жанрообразования в документальной литературе. В сочинениях, написанных с коммеморативными целями, на основе жизненной драматургии реализуются творческие возможности ученых как самодеятельных авторов. Предложен сравнительный анализ двух жизнеописаний ученых, созданных представителями научного цеха: хроника жизни И. В. Белькова, написанная его женой и коллегой И. Д. Батиевой, и автобиографическая повесть В. З. Негруцы, посвященная ушедшей из жизни супруге Т. Ф. Негруце и представленная как соавторская. Авторы и герои обеих книг - геологи, доктора наук, которые работали в Кольском научном центре РАН. Произведения объединяются по типу соотношения текстовой и внетекстовой реальности как видовому признаку документальной литературы. Анализ произведений опирается на идеи, согласно которым жанры идентифицируются на основе общих свойств, имеющих наджанровый характер. Они создают устойчивые или ситуативные сочетания и определяют сходство и разнообразие текстов. Профессиональная идентификация осуществляется на основе принципов документальности, мемуарности, историзма, биографизма, автобиографизма и коммеморативной установки. Они проявляются по-разному под влиянием мотивации автора, жанровой формы, литературных компетенций. Пересечение жанровых свойств в их варьируемых соотношениях и комбинаторике создает уникальные образцы документалистики, которые являются частью литературного наследия научной общности. В социально-антропологическом плане важно, что в них выявляются стабильные и варьирующие культурные модели ученых-геологов
Документальная литература, антропология профессий, антропология науки, геологи, биографическая хроника, автобиографическая повесть
Короткий адрес: https://sciup.org/147238900
IDR: 147238900 | УДК: 572+301(093.3) | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.802
Текст научной статьи Документальная литература ученых-геологов (о дискурсивных аспектах профессии)
Жанрово-видовые особенности биографий, автобиографий, мемуаров определяют их возможности не только как источников по истории науки и научной повседневности, но и ценного ресурса для антропологии науки и антропологии профессий. Документальные произведения ученых способствуют самопознанию академического сообщества, изучению его истории и культуры в целом и на уровне отдельных дисциплинарных общностей (см., например: [2], [3]). Они углубляют понимание «дискурсивных аспектов профес- сий» как «сложившихся или формирующихся способов говорить и представлять проблемы», а также смыслов, которые люди вкладывают в свою деятельность, специфики их жизненного мира, стилевых особенностей и т. п. [14: 40, 44].
Литературное творчество ученых, в том числе геологов, представляет особый культурный феномен. Мотивация авторов разнообразна: реализация личных творческих способностей или интереса к истории, сохранение памяти о близких и коллегах, популяризация научных
знаний, привлечение внимания к той или иной научной области и роли науки в обществе, решение педагогических и воспитательных задач. Во всех случаях произведения имеют культурно-идентифицирующее значение. Одна из наших задач – рассмотреть литературные формы, в которых осуществляется профессиональная идентификация ученых-геологов, в контексте проблемы жанрообразования в документальной литературе.
В обыденном словоупотреблении обозначение «геолог» относится к большому кругу специалистов, различающихся по виду занятий: геологам-разведчикам, минералогам, геохимикам и т. д. Различия в экспертном знании и специальных навыках несущественны с точки зрения социальнокультурных смыслов практической деятельности, которая связана с поиском, добычей и переработкой минеральных ресурсов. Профессии, объединенные понятием «геолог», символизируют «покорение» природы и освоение новых территорий. Образ геолога, занятого и рискованным физическим трудом, и интеллектуальной научной работой, соответствовал советской идее «нового человека». Повседневность геолога противоречит обыденным представлениям о рутине в силу высокого уровня опасности и неопределенности условий и результатов полевой работы.
Характер деятельности и практика ведения полевых дневников роднят геологов с представителями других научных специальностей, связанных с описаниями природы и быта (географами, этнографами). О том, что геолог – «человек пишущий», свидетельствует большой массив литературы воспоминаний1. Мемуары, био- и автобиографии воссоздают историю геологии как цепь путешествий и поисков, смену научных школ и направлений, развитие внешних и внутренних институциональных взаимодействий, серию биографий. Они обязательно включают разнообразные описания природно-ландшафтных особенностей территорий, полевой повседневности, а также рассказы о событиях на маршрутах. С антропологической точки зрения важно понимание того, как переживается профессиональный опыт, какими смыслами наделяется своя деятельность; «акценты при этом делаются на разделяемом, общем знании, специфике жизненного мира, стилевых особенностях, идентичности занятых тем или иным видом работ субъектов» [14: 44]. Пополнение фонда памяти об ученых в документальном литературном творчестве – это необходимое условие идентификации, показатель сплоченности научной общности и преемственности разделяемых группой ценностей.
ЛИТЕРАТУРА «НЕПРОФЕССИОНАЛОВ»
В отличие от «наивной литературы», привлекшей внимание фольклористов на рубеже ХХ–ХХI веков [10], почти не исследуются произведения, созданные высокообразованными авторами, которые разбираются в литературе, но не являются профессиональными литераторами.
Жизнеописания ученых чаще всего являются автобиографиями-мемуарами или пишутся коллегами по цеху. Здесь действуют интерпретационные схемы, которые основываются на общекультурных представлениях о традициях и формах биографирования и на специальном опытном знании о модусе жизни человека «своей культуры», понимании его мироощущения. По мнению специалиста по «интеллектуальной биографии» В. В. Ващенко, в последней трети ХХ века на смену «биографии-агиографии» ученого пришла «биография-контекстуализация», которая
«делает акцент на наличие всевозможных контекстов – интеллектуальных, политических, идеологических, – определяющих внешние контуры жизни ученого, за пределы которых он не может выбраться» (цит. по: [13: 59]).
Существует естественная граница между языком художественной литературы и языками других видов словесности. Научный работник привыкает к определенным способам изложения, но при этом у отдельных профессиональных групп ученых развиваются литературно-описательные навыки. В мотивах документальных повествований воплощаются характерные черты и символика деятельности. Любая профессиональная повседневность, наряду с событийностью, создает возможности для формирования сюжета и типовых мотивов, для изображения характеров и способов поведения в разных ситуациях, моделирования специфических конфликтов, а также для рефлексии о предназначении человека и драматическом противоречии между «частным» и общественно значимым.
С точки зрения нарратологии нет различий между художественным и документальным повествованием. По утверждению Ж. Женетта, при их разграничении «важен только официальный статус текста и горизонт его прочтения» [6: 405]. Е. Г. Местергази предложила концепцию, согласно которой «документальная литература» может быть выделена в отдельный вид художественной литературы с присущей ему спецификой художественной образности [9]. Рассматривая проблему в историко-типологическом ключе, С. С. Аверинцев подчеркивал, что «полупризнан-ные» жанры «особенно пластичны и подвижны», а потому «реалистический подход к литературному процессу <…> без их учета немыслим» [1: 20]. Он провел аналогию между жанром и биологическим видом, напомнив, что существование скрещиваний и гибридов возможно «только за счет того, что ни один, ни другой вид не выступает в полноте и чистоте своей сущности» [1: 8]. Современные финляндские исследователи в развитие этой идеи обосновали концепцию жанра по образцу естественно-научной и назвали подход «кластерным», поскольку жанры как абстракции («проекции») идентифицируются на основе общих свойств, которые создают устойчивые сочетания и порождают сходство текстов [17]. Ранее В. А. Луков обосновал понятие «жанровой генерализации» для обозначения процесса объединения разных жанров при воплощении общего принципа, который находится за пределами собственно жанра (документализм, историзм и т. д.) [8]. Понятия «биографизм», «автобиографизм» используются литературоведами в значении свойства конкретных произведений или генерализующего принципа и художественной, и документальной литературы [5], [12].
Иногда считается, что литература непрофессиональных писателей «эпигонская», авторы ориентируются на известные им жанровые образцы и не претендуют на литературную оригинальность. Однако анализ отдельных произведений и их сопоставление показывают, что «генерализующие принципы» и способы их реализации в конкретных случаях сочетаются не менее разнообразно и уникально, чем у профессиональных писателей и в художественной литературе. Важно, каким образом и в соответствии с каким замыслом комбинируются, например, личные воспоминания с письмами, дневниковыми записями и другими видами документов, приобретающими новые смыслы в контексте целого. Рассмотрим два произведения, сопоставимые по внешним основаниям. Оба написаны учеными-геологами, докторами наук, работавшими в академическом научном центре на Кольском полуострове. Обе книги посвящены памяти супруга-коллеги: в одном случае жена создала жизнеописание мужа, в другом – муж написал книгу о совместной жизни и работе, задуманную когда-то вместе с женой, сразу после ее смерти.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ ХРОНИКА
Жизнеописание ученого Игоря Владимировича Белькова (1917–1989) выполнено его женой Ией Дмитриевной Батиевой (1922–2007) как долг памяти мужа2. В аннотации и неоднократно в тексте книга названа «воспоминаниями».
Подзаголовок «Хроника жизни» соответствует биографической задаче и построению текста. Встречается и другое обозначение: «Эта повесть о человеке, который всю свою жизнь посвятил изучению геологии Кольского полуострова» (Батиева: 3). Ключевой смысл («жизнь, отданная геологии») определяет организацию повествования. Конструируется вариант биографии успешного советского ученого и создается образ гармоничной личности, которая полностью реализовалась в разных социальных ролях: исследователя, организатора науки, наставника, художника, семьянина, интеллигента. Самореализация ученого осуществляется вместе с развитием научной отрасли, и герой воплощает собой значительный этап ее истории, а также истории академического учреждения послевоенных десятилетий и геологического научного сообщества. Сюжет относится к типу, характеризующемуся
«содержательно непротиворечивым движением и развитием событий», которые «примыкают друг к другу в соответствии с взаимосвязанными принципами “вероятия” и смежности – временной, пространственной, объектной и субъектной» [15: 115].
Отчетливее всего такая конструкция выражена в официальных биографиях, в которых важна последовательность состояний и статусов человека в определенной социальной системе [4: 152]. Органическое жанровое свойство подобных текстов – хроникальность, но, в отличие от стандартизованной биографии, нарративное жизнеописание имеет сложную хронотопическую структуру.
В книге И. Д. Батиевой датированы все главы, линия жизни разделяется на стандартные этапы: «Родители. Раннее детство (1917–1924)», «Школьные годы (1925–1935)», «Университет (1936–1941)», «Война (1941–1945)», «Возвращение домой» (1945), «Наше знакомство (1946)», «Аспирантура (1946–1948)». С какого-то момента их знаменуют объекты полевых работ: «Канозеро (1948–1950)», «Большие Кейвы (1951–1956)». Глава «Новый этап исследований (1957–1989)» занимает вторую половину книги и разделена на подглавы по летописному погодному принципу, без пропусков лет. Завершение профессиональной карьеры (выход на пенсию) ученого если и происходит, то формально (в последний год жизни он не оставлял научных и общественных занятий). Эпилог содержит информацию о мемориальных мероприятиях, за ним следуют список литературы о И. В. Белькове, перечни его картин в каталогах выставок и наград.
Линейность профессиональной траектории совмещается с цикличностью, которая соответ- ствует ритмам жизни, работы и маятниковой мобильности (полевых, деловых и рекреационных выездов). Действия и ситуации повторяются по кумулятивному принципу. Повторяемость мотивов связана с «драматургией» профессиональной жизни. С одной стороны, автор повествования о «жизни в профессии» может рассчитывать на естественную событийность, особенно если это профессия из группы риска или сопряженная с путешествиями, преодолением расстояний и мобильностью [7]. Жизнеописание геолога невозможно без профессионально-идентифицирую-щих ситуаций, атрибутов, состояний. Опасности в дикой природе, полевой быт, физические нагрузки и травмы, разлука с близкими, ожидаемые, неожиданные и несостоявшиеся открытия обладают сюжетопорождающими возможностями. Они составляют фонд устойчивых мотивов рассказов геологов и о геологах. С другой стороны, то, что с внешней точки зрения воспринимается как событие или, как минимум, происшествие, в деятельности профессионала ру-тинизируется, поэтому повторяемость ситуаций и состояний неизбежна. Сюжетом становится сам процесс «опривычивания» после прохождения ряда специфических инициаций: первая экспедиция, первый научный доклад, статья, самостоятельная тема, защита диссертации и т. д.
Отрезок линии жизни И. В. Белькова до знакомства и брака с И. Д. Батиевой воссоздан по переписке Игоря Владимировича с родителями, которые жили в разных городах. Большая часть писем адресована сыном отцу в школьные, студенческие годы и в начале самостоятельной жизни. Письма подробны, наполнены размышлениями, описаниями и сопровождаются лишь кратким комментарием Батиевой, что превращает эту часть жизнеописания в эпистолярную автобиографию. В повествование включены также фрагменты переписки родственников в разные годы, что придает тексту полифонич-ность.
Мотив выбора профессии – один из ключевых. Он развернут в историю о выборе учебного заведения юношей из образованной семьи, у которого было много интересов и способностей (живопись, музыка, спорт, геология, архитектура), в условиях объективных социальных ограничений 1930-х годов и физических возможностей после полученной травмы. Судя по письмам, он без лишнего драматизма согласовал объективные возможности с «интуитивным» внутренним тяготением к сфере геологии. Весь дальнейший путь в науку – исключительно прямой. Даже война, участником которой был Бельков
(в том числе в период блокады Ленинграда), – лишь временная остановка после университета на этом пути.
Часть повествования, которая относится ко времени после 1946 года, сочетает свойства профессиональной и семейной хроник. Она описывает жизнь семьи от создания, с событиями рождения и взросления детей, до распада со смертью одного из супругов. Образ жизни подчинен размерностям профессиональной повседневности: с ежегодными экспедициями, написанием научных трудов, поездками на конференции. Событийный план составляют выделяющиеся из обыденности испытания и происшествия на маршрутах, смены профессионального статуса, значительные открытия, знаковые публикации, насыщенные впечатлениями поездки, отчасти – события семейной жизни (рождение и важные вехи жизни детей), а также конфликтные «системно-профессиональные» ситуации, препятствующие решению научных проблем.
О работах и достижениях И. В. Белькова повествуется строками отчетов, выдержками из официальных документов о признании заслуг, наградах. В послужном списке ученого отмечены этапы накопления результатов, последовательность тем и открытий, публикаций, докладов. Воспроизводить эту схему «художественно» или довериться документам – выбор биографа. Он в равной мере зависит от наличия и репрезентативности доступного документального фонда, от литературных возможностей автора и его установки.
В аннотации указано, что книга создавалась «при поддержке и участии» Кольского научного центра РАН, Геологического института и Кольского отделения Российского минералогического общества. Речь, скорее всего, о финансовой и организационной поддержке, однако не исключено и вмешательство в текст – как редакторское, так и коллегиальное, например, в подборе документов, из которых складывается биография научного работника, тем более должностного лица. Прежде всего это касается официальных отчетов, фрагменты которых распознаются в повествовании по их стилистике. Автор, по крайней мере на уровне «пакта» с читателем, выступает и от своего лица, и как представитель коммеморативной общности (коллективного автора и адресата произведения).
Книга о И. В. Белькове занимает промежуточное положение между институциональной биографией и свободным повествованием об ученом, написанным близким человеком, который полно- стью включен в его жизнь. «С ним я бок о бок прошла 42 счастливых года, – пишет И. Д. Батиева, – и после ухода в мир иной он был всегда рядом со мной в моих мыслях и делах» (Батиева: 3).
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
Книга Тамары Федоровны Негруцы (1932– 2000) и Владимира Зиновьевича Негруцы (1934– 2011) была задумана в конце 1980-х годов, когда начала распадаться страна, и у супругов-ученых возникла идея поделиться опытом «двух преданных членов» советского общества, которые прошли сквозь все его испытания и считали, что «опыт семьи и ее вживания в так круто меняющиеся условия» может быть полезен. Однако мемуарное произведение о проживании семьей советской истории не состоялось. Помешали «увлечение геологией» и необходимость «систематизировать и проанализировать совместно накопленный фактический материал» (Негруца: 3). Книгу написал В. З. Негруца сразу после смерти жены. Замысел изменился, воплотившись в повести «Тропою любви»3. Написанные Т. Ф. Негруцей перед смертью 33 строчки автобиографии начинают повествование («Вместо предисловия»), остальное писал В. З. Негру-ца, но публикуется произведение как соавторское. Так создается символический план повести. Запись Тамары Федоровны о детстве и юности закончилась на словах «В Кузнецком Алатау встретилась с Володей и…» (Негруца: 9). Печальное обстоятельство обратилось в литературный прием: автор изложил на одной странице свою «предысторию» и тоже поставил многоточие: «Так я попал в Кузнецкий Алатау, где встретил Тамару…» (Негруца: 10). Произведение стало повестью, написанной в память о жене, и историей одной семьи с выраженной профессиональной идентичностью.
Основной смысл повести состоит в утверждении ценности супружеской семьи ученых, «совместности» и любви, пронесенных через испытания. Вместе с тем бытие семьи – жизнь в геологии. Лейтмотивом является мотив супружеской солидарности как личностно-эмоционального и профессионального единения. Семейная пара ученых – действующие лица истории геологических исследований второй половины ХХ века. Их домашний быт и супружеские отношения – часть научной повседневности, события, которые происходят в науке, переживаются в семье, работа не прекращается в домашнем пространстве, а ее успешность всецело зависит от взаимной профессиональной поддержки и интереса к трудам друг друга. Коллизии, связанные с отстаива- нием научных позиций, защитами диссертаций, удачными и неудачными «полями», составляли, по словам автора, «профессиональные аспекты нашей семейной жизни». То же можно сказать о семейных аспектах профессиональной жизни: это работа в одних организациях, стремление участвовать в одних экспедициях, совместное продумывание идей, помощь в написании трудов. В повести достаточно места отводится рассказу об истории исследований и конкретных научных проблемах, но сюжетообразующая роль принадлежит семейной идее.
Сюжеты литературных произведений на семейную тему соответствуют парадигме, основанной на фазах жизненного цикла «малой» семьи [16]. Его составляют события брака, рождения, смерти, разводов, конфликтов, переездов и т. д. Брачные и семейные отношения – идеальная канва для романизации документальной прозы. Повесть В. З. Негруцы начинается с главы «Встреча», за ней следуют «Знакомство», «Любовь», «Женитьба», «Свадебное путешествие», «Рождение Аленушки», «Сквозь первые размолвки», «Начало нашей совместной работы», «Очередная разлука», «И снова совместное поле» и т. д. Из названий 20 глав только четыре лексически не связаны с семейным жизненным циклом и супружескими отношениями. Испытания на пути «созидания совместной жизни» в виде конфликтов, которые чуть не привели супругов к разрыву, были запрограммированы социально-культурными различиями родительских семей: со стороны В. З. Негруцы это сельская крестьянская семья молдаван, со стороны его жены – ленинградская русская семья, которая в интерпретации автора предстает как «мещанская». Воспитательные и нравственные установки ориентационных семей во многом разнились, что порождало конфликты. Профессиональное единение было одним из факторов их преодоления. В повести ярко выражен символический план супружеских отношений, подчеркнуты их духовные основания, начиная с первой встречи с женой и заканчивая ее смертью, метафорически означенной как «уход в последнее геологическое поле». Событиями служит то, что осмыслено символически и важно с точки зрения психологии брачного выбора и взаимодействий. Основу того и другого составляют «духовность, внутренний мир и индивидуальная мыслительная сущность» партнера (Негруца: 21).
Рассказ В. З. Негруцы имеет исповедальный, эмоционально-интимный характер: в описаниях нежных чувств, переживаний ревности, сцен супружеских ссор. Романному началу соответству- ет использование прямой диалогической речи. Повесть отличает авторский стиль (речевое поведение), для которого характерны эмоциональность, психологизм, философские и нравственнодидактические рассуждения о человеке, истории, цивилизации, этике. В самом начале автор заявил, что ему «и в голову не приходило заглядывать» в их общее «неохватное эпистолярное наследие», так как жена продолжает жить рядом, «в мыслях и делах», и все написанное – это «в унисон произнесенные мысли, единой думой сформулированные отрывки самых важных для нас бусинок прожитой жизни» (Негруца: 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Два жизнеописания ученых-геологов при всех видовых, жанровых и сюжетных различиях объединяются по типу соотношения текстовой и внетекстовой реальности, если ориентироваться на предложенную С. Ю. Неклюдовым объяснительную модель устойчивой топики повествований [11: 474]. В документальной литературе драматургия повествования является проекцией «драматургии жизни», хотя не прямой и не полной, «“описание исторической действительности” неизбежно остается своего рода “виртуальной реальностью”» [11: 477–478]. Обе книги документальны, но в разном отношении. Хроника жизни И. В. Белькова опирается на документы – личную переписку, официально зафиксированные результаты исследований, свидетельства о наградах и др. Они включаются в текст, выделяясь курсивом, кавычками или опознаваясь без них. Повесть «Тропою любви», по существу, игнорирует документы, хотя авторский текст в части рассказа о научном процессе и его результатах местами стилистически им соответствует. Документальность произведения В. З. Негруцы в том, что оно в своей целостности является эго-документом. В обоих случаях полноправно присутствует один документальный источник – фотографии, «производственные» и семейные, служащие историческими свидетельствами и иллюстрациями. Оба жизнеописания преследуют коммеморативную цель, воплощая ее по-своему. И. Д. Батиева создала текст-памятник крупному ученому и своему мужу, его научным достижениям. В. З. Негруца написал объяснение в любви умершей жене, текст-реквием по ней и счастливо прожитым годам, адресовал обобщенному читателю свою исповедь и преподал философско-нравственные уроки. Обе книги содержат начала мемуарности и историчности. «Живая память» (индивидуальная и коллективная, если иметь в виду профессиональную общность) сочетается с документированными фактами. Насколько это удачно в литературном плане – вопрос оценки. Жизнь ученых вписана в историю страны и неотделима от истории науки геологии. Оба мемуариста оценивают ее как «интересную жизнь в наше счастливое время» (Батиева: 3), прежде всего потому, что «посчастливилось сравнительно глубоко вникнуть как в производственные, так и научные аспекты геологии, воспринимать ее как науку о вечно развивающейся Земле» (Не-груца: 229). Авторы создали два информативных ресурса для историков геологической науки. Оба повествования по-своему автобиографичны, но если у В. З. Негруцы автобиографизм – одна из доминантных характеристик жанра, заявленных автором, то в сочинении И. Д. Батиевой – это естественное (литературно не отрефлексиро-ванное) следствие глубокой причастности автора к жизни ее героя, что обуславливает частую замену «он» на «мы» в жизнеописании биогра-фируемого лица. Кроме того, «Тропою любви» символически представлена как семейная (супружеская) автобиография. Оба произведения содержат «семейную историю», одно в историкохроникальном варианте с элементами научности, другое – в романическом плане.
Пересечение названных черт в их различных соотношениях и комбинаторике создает уникальные образцы документальной литературы, в которых в большей или меньшей степени присутствует художественное начало. Рассмотренные жизнеописания являются частью литературного наследия научной общности. В социально-антропологическом плане важно, что в них выявляются стабильные и варьирующие культурные модели ученых-геологов, как профессиональные, так и семейные, гендерные и прочие.
Список литературы Документальная литература ученых-геологов (о дискурсивных аспектах профессии)
- Аверинцев С. С. Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкну-тости // Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы. М.: Наука, 1989. С. 3-25.
- Антропология академической жизни: традиции и инновации / Отв. ред. Г. А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2013. 376 с.
- Антропология профессий, или Посторонним вход разрешен / Под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смир-новой. М.: Вариант: ЦСПГИ, 2011. 356 с.
- Байбурин А. К. Заметки о формировании официальной биографии в российской традиции // Словесность и история. 2021. № 2. С. 140-154. DOI: 10.31860/2712-7591-2021-2-140-154
- Болдырева Е. М. Автобиографизм и автобиография: самоконструирование и семиотизация субъекта // Ярославский педагогический вестник. 2017. № 4. С. 242-251.
- Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. 472 с.
- Змеева О. В. Полевой сезон геолога и практики мобильности: к истории минералогических исследований Хибинских тундр // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2018. № 5 (174). С. 91-96.
- Луков В. А. Жанры и жанровые генерализации // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 1. С. 141-148.
- Местергази Е. Г. Документальное начало в литературе ХХ века. М.: Флинта: Наука, 2006. 160 с.
- «Наивная литература»: Исследования и тексты / Сост. С. Ю. Неклюдов. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. 246 с.
- Неклюдов С. Ю. Темы и вариации. М.: Индрик, 2016. 520 с.
- Павлова С. Ю. О соотношении понятий «жанр автобиографии», «автобиографический дискурс», «автобиографизм»: литературоведческий аспект // Жанры речи. 2020. № 1 (25). С. 22-28. DOI: 10.18500/23110740-2020-1-25-22-28
- Попова Т. Н. Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических традиций. Теория. Методология. Практика. Одесса: Бондаренко М. А., 2017. 456 с.
- Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Антропологические исследования профессий // Антропология профессий: Сб. науч. ст. Саратов: Науч. кн., 2005. С. 13-49.
- Силантьев И. В. Сюжетологические исследования. М.: Языки славянской культуры, 2009. 223 с.
- Jonnes D. The matrix of narrative: Family systems and the semiotics of story. Berlin; New York; Mouton de Gruyter, 1990. 293 р.
- Kokkonen T., Koskinen I. Genres as real kinds and projections // Genre - text - interpretation: Multidisciplinary perspectives on folklore and beyond (ed. by Kaarina Koski and Frog with Ulla Savolainen). Finnish Literature Society / SKS. Helsinki. Studia fennica folkloristica. 22. 2016. P. 89-109.