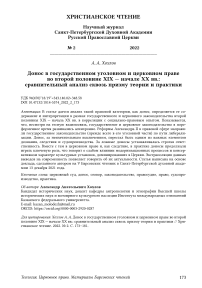Донос в государственном уголовном и церковном праве во второй половине XIX - начале XX вв.: сравнительный анализ сквозь призму теории и практики
Автор: Хохлов Александр Анатольевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право: материалы барсовских чтений
Статья в выпуске: 2 (101), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье дается анализ такой правовой категории, как донос, определяется ее содержание и интерпретации в рамках государственного и церковного законодательства второй половины XIX - начала XX вв. в корреляции с социально-правовым опытом. Показывается, что, несмотря на тесную взаимосвязь, государственное и церковное законодательство в пореформенное время развивались асинхронно. Реформы Александра II в правовой сфере направили государственное законодательство (прежде всего в его уголовной части) по пути либерализации. Донос, за незначительным исключением, перестал быть одним из важных элементов дознания, следствия и судопроизводства. За ложные доносы устанавливалась строгая ответственность. Вместе с тем в церковном праве и, как следствие, в практике доносы продолжали играть ключевую роль, что говорит о слабом влиянии модернизационных процессов и консервативном характере культурных установок, доминировавших в Церкви. Экстраполяция данных выводов на современность позволяет говорить об их актуальности. Статья написана на основе доклада, сделанного автором на V Барсовских чтениях в Санкт-Петербургской духовной академии 13 декабря 2021 года.
Церковный суд, донос, оговор, законодательство, правосудие, право, судопроизводство, практика
Короткий адрес: https://sciup.org/140293637
IDR: 140293637 | УДК: 94(470)"18/19"+343.140.02+348.58
Текст научной статьи Донос в государственном уголовном и церковном праве во второй половине XIX - начале XX вв.: сравнительный анализ сквозь призму теории и практики
В старорусском смысле донос — сообщение частным лицом органам власти о совершенном кем-либо преступлении с целью вызвать судебное расследование. Данное явление типично как для истории Нового времени европейских государств, так и России. Неудивительно, что распространенность доносов в нашей стране достаточно рано обнаружила необходимость их законодательной фиксации. Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г. (далее — Уложение 1845 г.) — первый отечественный уголовный кодекс — прекрасно это демонстрирует. Связь доносов с преступлениями предопределила закрепление данной категории в уголовном праве империи. Впрочем, на практике доносы нередко могли содержать в себе сведения и о проступках, причем юридически довольно малозначительных. Тем не менее законодательную локализацию норм, регулирующих данное явление, это не меняло.
В силу исторической инерции до судебной реформы 1864 г. в процессуальном порядке донос имел относительно самостоятельное значение и четко нормировался в Уложении 1845 г. При этом законодателем термин «донос» интерпретировался неоднозначно и не наделялся исключительно негативным смыслом. Напротив, в ряде случаев донос вменялся в обязанность государственных служащих и рядовых подданных всех сословий, а практика доносительства поддерживалась идеологически и поощрялась материально. Это касалось целого спектра сведений: о готовившихся или уже осуществленных государственных преступлениях, финансовых нарушениях, стихийных бедствиях и т. д. Недонесение или несвоевременный донос влекли за собой санкции. Так, в ст. 1416 Уложения 1845 г. установлено: «Кто, будучи по закону обязан доносить о случившемся пожаре своему начальству, не исполнит сего в надлежащее время, тот, хотя бы пожар и был потушен, подвергается за сие денежному взысканию от пятидесяти копеек до десяти рублей, смотря по его званию или должности» (Уложение, 1845, 571).
Вместе с тем судебная практика знала и такое явление российской повседневности, как необоснованные (лживые) доносы — изветы. Поэтому Уложение 1845 г. семантически дифференцирует понятие доноса как категории позитивной и лживого доноса, как имевшего деструктивный характер (Уложение, 1845, 479). Согласно ст. 1166, за лживые доносы доносчик мог быть лишен свободы, заключен в смирительный дом, лишен части прав, сослан или бит розгами (Уложение, 1845, 481). Однако донос не признавался лживым, а сделавший его не подвергается наказанию, если объект доноса, в силу тех или иных причин и обстоятельств, был оставлен в подозрении или представленных доказательств оказалось недостаточно (Уложение, 1845, 481–482). Ст. 1168 и 1169 Уложения 1845 г. также регулируют вопрос наказания за ложные свидетельства, данные в суде под присягой и без таковой. Особое внимание в документе уделялось подлинности данных, полученных в ходе т. н. повальных обысков — важного элемента предварительного следствия до судебной реформы 1864 г. Он представлял собой опрос местных жителей на предмет поведения и нравов подозреваемого. Отметим, что повальные обыски нашли применение в том числе и в церковной повседневности и широко применялись епархиальными властями для установления истины в рамках тех или иных дел. Нарушение объективности и пренебрежение точностью фиксируемых сведений со стороны должностного лица, в обязанность которого входило осуществление повального обыска, могло караться отрешением от должности или заключением в тюрьму на срок до шести месяцев (Уложение, 1845, 483). Наказание ужесточалось, если мотивом искажения являлась корысть или иные подобные тому причины.
В связи с судебной реформой 1864 г. процессуальная важность доносов, по сравнению с предыдущим периодом, снизилась, хотя по-прежнему сохранялась (Нерар, 2011, 398). По Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. (далее — Устав 1864 г.) доносчики перестали приводиться к присяге. Однако в вопросах вскрытия злоупотреблений в системе государственного управления, в случае если представленные сведения находили подтверждение, им по-прежнему полагалось вознаграждение (Устав, 1864, 164). Однако внимание к доказательной базе существенно возросло. Иными словами, фактор достоверности теперь становился ключевым при принятии решения о начале дознания и, в особенности, следствия. Так, ст. 298 Устава 1864 г. в ряду других подчеркивает ключевое значение очевидца события для инициирования следствия (Устав, 1864, 40). Если такового не оказывалось, то основания для возбуждения процесса считались недостаточными. Важно подчеркнуть, что ст. 300 Устава 1864 г. четко регулировала вопрос анонимных доносов: «Безымянные пасквили и подметные письма не составляют законного повода к начатию следствия» (Устав, 1864, 40). Однако «если они заключают в себе указание на важное злоумышление или преступное деяние, угрожающее общественному спокойствию, то служат поводом к полицейскому розыску или дознанию, могущему повлечь за собою и само следствие» (Устав, 1864, 40). Таким образом, в государственном законодательстве, несмотря на его очевидную эволюцию, оставлялась лазейка для субъективной интерпретации данной категории доносов, что обусловливалось, очевидно, политической или полицейской целесообразностью. (Заметим, что, как нередко бывает, на практике это открывало широкую дорогу различным злоупотреблениям…) Однако, в то же время, в вопросе применения санкций к злонамеренным доносчикам Устав 1864 г. отсылал к суровым нормам Уложения 1845 г.
Новое Уложение о наказаниях 1903 г. не внесло существенных корректив в описываемую картину. Лживые доносы регулировалась в кодексе нормами главы седьмой «О противодействии правосудию» (Уложение, 1903, 64–72). Однако в характере санкций уже просматривается либерализация и гуманизация отечественной правовой сферы под идеологическим влиянием европейских тенденций. Заключение в тюрьму или смирительный дом, как варианты, сохранялись, но, к примеру, были исключены лишение прав и телесные наказания. Вместе с тем наказания за недонесение (по самым разным обстоятельствам), напротив, ужесточались, преимущественно в виде увеличения сроков лишения свободы.
Вопрос, насколько в российской повседневности было распространено безосновательное доносительство, требует отдельного внимания. Так, видный отечественный юрист А. Ф. Кони приводит в своих воспоминаниях один из случаев жалобы петербургского купца Лебедева на известную в Москве и Петербурге игуменью Митрофанию (1873 г.). Основываясь на описании, можно прийти к выводу, что практика лживого доносительства тогда была вполне рядовым явлением, что и побудило судебного деятеля, прежде чем принять жалобу, исполнить обязанность — предупредить Лебедева о соответствующей ответственности (Кони, 1873). Современник событий П. К. Щебаль-ский вообще рассматривает злонамеренное доносительство и кляузничество как природные страсти русского народа. «Следственные дела, которые передо мною, — пишет он, — дают крайне печальное понятие о нравственных началах старинной Руси; доносы делались с такою легкостью, с такою, так сказать, развязностью, по таким, большей частью, маловажным побуждениям, что не знаешь, чему более удивляться, моральной или физической бесчувственности наших предков» (Щебальский, 1861).
Это умозаключение послужило поводом к жесткой критике позиции историка. Оппонентом П. К. Щебальского выступил публицист С. С. Дудышкин. Последний развил на страницах «Отечественных записок» в октябре 1861 г. пространную полемику. Однако предмет дискуссии скоро вышел за хронологические рамки истории России и был экстраполирован на современность. Симптоматично, что полемический акцент делался критиком на природе явления, но отнюдь не на подтверждении или опровержении наличия его в русском обществе. В последнем, вероятно, попросту не имелось смысла, поскольку масштаб и распространенность проблемы были общеизвестными. Не менее интересно и то, что дискуссия наглядно продемонстрировала специфическую черту общественной психологии рассматриваемого периода: доносительство в любых формах воспринималось в однозначно негативном ключе без намека на более сложное понимание, которое фигурирует в государственном законодательстве. Налицо парадоксальная ситуация, суть которой сводится к пестованию морального ригоризма в отношении доноса как такового при чрезвычайной распространенности и востребованности самого явления в социальной действительности.
Русская Церковь ко второй половине XIX в. уже совершенно очевидно не могла стоять вне единого правового пространства государства. Нормы имперского законодательства столь же обязательно распространялись на нее, как и на прочие социальные институты. В особенности это касалось вопросов уголовного преследования подведомственных лиц. Вместе с тем на практике Церковь продолжала сохранять определенную степень автономности в силу особого духовного, культурного и исторического статуса. Границы этой автономности отнюдь не были четко прочерчены, что оборачивалось маргинальным положением духовного сословия в социальноправовой системе империи, вынужденного нести двойное бремя государственного и церковного контроля. Сложность заключалась и в том, что правовой каркас Церкви представлял собой своеобразный сплав норм каноническо-церковного и государственного права, баланс и гармоничное сочетание которых вызывали множество вопросов у самих современников. Так, если в широком спектре типов уголовных дел Церковь относительно безболезненно уступала место государству, то по другим отраслям — в особенности там, где она претендовала на исключительную или особую юрисдикцию, — об однозначности говорить не приходилось.
В вопросе доносов разночтения между государственным и церковным пониманием проблемы просматриваются уже на терминологическом уровне. Уставы духовных консисторий 1841 и 1883 гг. в строгом смысле не идентифицируют донос как самостоятельную правовую категорию. В текстах фигурируют различные семантические вариации термина («доносить», «доносится»), наделенные позитивным смыслом осведомления начальственных лиц о замеченных на местах непорядках. Собственно, в этой части усматривается схожесть государственных и церковных подходов. Однако категория лживого доноса в Уставе 1883 г. не представлена. Вместо нее в ряде случаев используется устаревший термин «оговор», смысл которого отнюдь не тождествен доносу. Происходит он из уголовного права. В старинной традиции оговор означал показания обвиняемого против третьих лиц как соучастников преступления, полученные под пыткой. Ко второй половине XIX в. смысловое значение термина модифицировалось: под оговором стало пониматься как ложное показание, так и добросовестное заблуждение. Однако, в отличие от доноса, они ограничивались процессуальными рамками — допросом. Ст. 150 Устава 1883 г. гласит: «Если духовное лицо оговаривается в противозаконных действиях, подвергающих его уголовному суду, то первоначальное исследование производится в духовном ведомстве, при чиновнике градской или земской полиции, и если оговоренный, при исследовании не очистит себя от оговора, то он предается уголовному суду по определению Консистории» (Устав, 1883, 58).
Обоснованность оговора должна была быть установлена уполномоченным лицом (ст. 155, 244), что делало само явление не только допустимым, но и де-факто важным элементом процесса, требующим внимания. В отношении оговоренного в преступлении священнослужителя допускалось превентивное применение церковной санкции в виде запрета в священнослужении до наступления фактического и полного вскрытия всех обстоятельств дела, доказывающих или опровергающих его виновность (ст. 159). Субъективная позиция правящего архиерея в данном случае выступала мерилом достаточности доказательств: «Распоряжение о сем вверяется собственному усмотрению местного Архиерея, обязанного пещись, чтобы обвиняемые в важных преступлениях против благоповедения по заповедям Божиим не приступали к служению Алтарю Господню, коль скоро есть уже достаточные причины предусматривать, что они обвиняются справедливо» (Устав, 1883, 62). Таким образом, церковное судопроизводство в тот период однозначно исходило из презумпции виновности1.
Впрочем, сменив ракурс подхода к проблеме, мы обнаруживаем, что термин «донос» встречается в древнем каноническом праве. Согласно 90-му правилу Карфагенского Собора, лица, состоящие в клире, в случае поступившего доноса должны были сами заботиться о доказательствах своей невиновности (Канонические правила, 2022). Обязанность по доказыванию невиновности здесь также возлагалась на подозреваемого. Причем данная норма, несмотря на то, что Устав 1883 г. уже четко дифференцирует понятия преступления и проступка (хотя и не раскрывает их содержания), в интересующий нас период распространялась на все виды противозаконных действий. Небезынтересно, что, со своей стороны, государственное законодательство в начале пореформенного времени практически развернулось в сторону закрепления презумпции невиновности как одного из основополагающих принципов уголовного судопроизводства.
Узаконивая донесения о преступлениях и проступках духовных и светских лиц (ст. 153), Устав 1883 г. не регулирует аспект проблемы, касающийся безосновательности и злонамеренности поступавших сведений, подметных писем или устных заявлений, доказательства по которым недостоверны, частичны либо отсутствуют вовсе. Церковный законодатель не обговаривает и вопрос санкций в отношении лиц, их представивших. Можно предположить, что в этой части Церковь по умолчанию отсылает к нормам государственного права. Однако указаний на это в Уставе 1883 г. мы не встречаем.
Впрочем, каноническое право, продолжавшее оставаться актуальным, все же пыталось ввести некий баланс в эту конструкцию. Согласно 21-му правилу IV Вселенского Собора, церковным властям не следовало принимать доноса на клириков и мирян, доносящих на епископов или на клириков, не исследовав предварительно общественное мнение о доносчиках (Правила, 2022). Однако анализ консисторских дел Казанской епархии демонстрирует довольно мрачную картину бытовавшей правоприменительной практики: обвиненные клирики повсеместно обязывались давать (и давали) объяснения по тем или иным (в том числе анонимным) доносам, в то время как уравновешивающая норма IV Вселенского Собора применения, в целом, не находила.
Обратимся к одному из многочисленных и весьма характерных примеров. В сентябре 1856 г. благочинному Казанского уезда Политову поступил авторизованный письменный донос на священника села Высокая Гора Петра Кубасова и дьячка Алексия Митропольского, изобиловавший подробностями о предосудительном поведении клириков. «Сего 1856 года сентября 16 дня дошло до моего сведения, что села Высокой Горы наблюдавший священник Петр Кубасов вместе с дьячком того же села Алексеем Митропольским, бывши в питейном доме в 1-х числах августа сего года, напились оба пьяными до такой степени, что не могли дойти до своего дома; а потому села Высокой Горы мирской начальник, казенный крестьянин Никита Григорьев вынужденным был нарядить своих одножителей… дабы они впрягли лошадь в телегу, взяли их обоих из питейного дома и увезли домой…» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5294. Л. 5–5 об.).
Консистория назначила предварительное расследование. Как оказалось, причина кляузы крылась в столкновении свящ. Стефана Шумковского и части крестьян с одной стороны, и свящ. Петра Кубасова и дьячка Митропольского — с другой. В силу ряда проступков свящ. С. Шумковского, свящ. Петр Кубасов был назначен наблюдающим за его приходом, с чем не согласилась часть сельчан. Энергичный, но чужой им пастырь в скором времени обнаружил утаенную церковным старостой приличных размеров сумму в размере 215 руб. серебром, о чем добропорядочно сообщил архиерею и благочинному. Последний подверг средства изъятию (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5294. Л. 11). С этого момента для свящ. Петра Кубасова началась череда неприятностей. Сподвижники свящ. С. Шумковского из числа местных крестьян в один из дней пьяными ввалились в церковь во время богослужения, мешая священнику выполнять обязанности (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5294. Л. 15). Затем, вероятно, по наветам Шумковско-го, они взволновали и все село, представив дело так, будто бы изъятые деньги были мирскими и в церкви находились лишь на хранении. В адрес свящ. Петра Кубасова и его причетника посыпались оскорбления и угрозы. Дело дошло до того, что крестьяне отказались снабжать священника сеном, что неуклонно исполнялось ими исстари.
Официально объявленный повальный обыск, вероятно, несколько остудил крестьян2. В ходе следствия только староста Григорьев, находясь, к слову, под присягой, продолжал настаивать на подлинности истории с питейным домом, в то время как остальные соучастники оговора пошли в отказ. Прихожане в количестве более пятидесяти человек хоть и подтвердили, что время от времени видели свящ. Петра Кубасова и дьячка Митропольского нетрезвыми, но до крайностей, описанных в доносе, дело не доходило. Результаты обыска и вскрывшиеся подлинные обстоятельства конфликта, между тем, положительного эффекта не принесли, поскольку свящ. С. Шумковский и не думал сдаваться. Продолжая свою линию, вместе с Григорьевым они отыскали некоего хронически хмельного рязанца Стефанова, завсегдатая высокогорского питейного дома, который публично должен был подтвердить пребывание свящ. Петра Кубасова и дьячка Митропольского в кабаке и их крайнее опьянение. Однако персона свидетеля оказалась настолько неудачной, что оклеветанные закономерно и обоснованно заявили ей отвод.
В конечном счете, ввиду абсурдности ситуации, духовная консистория приняла решение о несостоятельности доноса и бесперспективности дальнейших разбирательств. Священник Петр Кубасов и дьячок Алексий Митропольский были освобождены от ответственности с традиционным внушением впредь «вести себя благочестиво». Однако никаких санкций в отношении провокаторов и доносчиков епархиальной властью применено не было, что равно можно рассматривать как нежелание консистории усугублять конфликт с крестьянами, от которых причт непосредственно зависел, так и как лояльное отношение к порочной практике ложного доносительства, обусловленное, вероятно, сугубо практическими резонами.
Анализ консисторских следственных документов приводит к выводу, что доносы в своем многообразии выступали важным элементом реализации епархиальной политики. По нашему замечанию, вне зависимости от их типа, в ста процентах случаев доносы становились основанием для запуска процесса дознания. Безусловно, отнюдь не каждый донос был безосновательным или лишенным смысла. Как ни странно, они позволяли правящим архиереям и консисториям своевременно пресекать деструктивные явления в приходской жизни разбросанных по огромным пространствам церковных причтов, администрирование которых в условиях отсутствия связи, дорог и сурового климата само по себе было проблемой невероятно сложной. Однако вопрос правосудия таким образом ставился на довольно зыбкое основание архаичной традиции, при несовершенстве правовых механизмов оказывавшееся в зависимости от целого спектра сугубо субъективных факторов. Практика доносительства препятствовала модернизации церковной правовой системы и совершенствованию правоприменительных подходов. В данном случае государство и Церковь, очевидно, двигались не только асинхронно, но и в разных направлениях.
Тем не менее в массе дел Казанской духовной консистории нам удалось отыскать по крайней мере два случая, результатом которых стало наказание недобросовестных доносчиков. Первый случай датируется 1886 г. и с связан с доносом крестьянина Волкова на чистопольского священника Николая Зефирова (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7250. 69 л.). Тогда следствие установило невиновность священнослужителя, а доносчик признал лживый характер кляузы, за что и был принужден публично извиниться перед свящ. Н. Зефировым, «поклонясь в ноги». Примечательно, однако, что Волков был безграмотным, так что в составлении извета на имя архиерея ему кто-то оказал активное содействие. Данное лицо, впрочем, осталось неизвестным. Во втором случае обнаружена запись в ведомостях о лицах, заключенных в монастырях Казанской епархии за 1903 г. В ней говорится о заключенном на две недели в Космодемьянский Михайло-Архангельский монастырь псаломщике, наказанном за подстрекательство прихожан к подаче лживого доноса на своего священника (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 118965. 78 л.). Впрочем, обстоятельства дела неясны: собственно донос явился непосредственной причиной наказания или же его следствие — социально опасное явление в виде нарушения крестьянами общественного спокойствия? При этом не может не броситься в глаза, что наместник монастыря в записи использовал именно термин «ложный донос», а не законодательно установленный «оговор».
Как бы то ни было, но вышеприведенные случаи вряд ли способны существенно скорректировать описываемую картину. Положение дел в части обозначенной проблемы все равно продолжало оставаться сложным, и даже к началу XX в. находилось под давлением не рациональных подходов, а негласной традиции, что постепенно усиливало не только правовой, но и психологический диссонанс в духовном сословии и в обществе в целом.
Список литературы Донос в государственном уголовном и церковном праве во второй половине XIX - начале XX вв.: сравнительный анализ сквозь призму теории и практики
- ГА РТ — Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5294. Л. 5-5 об., 11, 15; Ф. 4. Оп. 1. Д. 7250. 69 л.; Ф. 4. Оп. 1. Д. 118965. 78 л.
- Дудышкин (1861) — Дудышкин С. С. Современная хроника России // Отечественные записки. 1861. Октябрь.
- Канонические правила — Канонические правила Православной Церкви с толкованиями. Карфагенский собор 393-419гг. URL: https://azbyka.ru/otechnik/pravila/pravila-i-sobory-pravoslavnoj-cerkvi-karfagenskij-sobor/#0_90 (дата обращения: 26.02.2022).
- Кони (1873) — Кони А. Ф. Из записок и воспоминаний судебного деятеля. URL: http:// lib.ru/MEMUARY/KONI_A_F/igumenia.txt (дата обращения: 27.02.2022).
- Правила — Правила IV Вселенского Собора. URL: https://sedmitza.ru/lib/text/435474/ (дата обращения: 01.01.2022).
- Уголовное Уложение — Уголовное Уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. С приложением предметного алфавитного указателя. СПб., 1903.
- Уложение — Уложение о наказаниях 1845 г. СПб., 1845.
- Устав — Устав духовных консисторий 1841 г. СПб., 1841.
- Устав — Устав духовных консисторий 1883 г. СПб., 1900.
- Устав — Устав уголовного судопроизводства 1864 г. СПб., 1864.
- Щебальский (1861) — Щебальский П. К. Черты из народной жизни в XVIII веке // Отечественные записки. 1861. Октябрь.
- Волужков (2018а) — Волужков Д.В. К вопросу о презумпциях и фикциях в современном церковном судопроизводстве // Христианское чтение. 2018. № 2.
- Волужков (2018б) — Волужков Д.В. К вопросу об основаниях церковного судопроизводства: на примере «Положения о церковном суде Русской Православной Церкви» от 2008 г. // Христианское чтение. 2018. № 3.
- Волужков (2019) — Волужков Д.В. Отдельные вопросы церковного права в сравнении с правом светским. Комментарий к публикации // Вестник Исторического общества. 2019. № 1 (3).
- Марк Святогоров (2019) — Марк (Святогоров), иером. Роль и значение презумпции невиновности в светском и церковном суде // Вестник Исторического общества. 2019. № 1 (3).
- Марк Святогоров, Тарнакин (2018) — Марк (Святогоров), иером, Тарнакин Н.А. Юридические фикции и презумпции в церковном судопроизводстве (по Положению о Церковном суде 2008 г.) // Христианское чтение. 2018. № 1.
- Нерар (2011) — Нерар Ф.К. Пять процентов правды. Разоблачение и доносительство в сталинском СССР. 1928-1941. М.: РОССПЭН, 2011. 398 с.
- Оспенников (2018) — Оспенников Ю.В. О подходах к трактовке фикций в светском и церковном праве (О статье иеромонаха Марка (Святогорова) и Н. А. Тарнакина «Юридические фикции и презумпции в церковном судопроизводстве») // Христианское чтение. 2018. №2.
- Степченко (2013) — Степченко В. А. Аксаковы об изменении культурно-нравственных отношений крестьян и помещиков в контексте социально-экономического развития России первой половины XIX в. // Омский научный вестник. 2013. № 2 (116). С. 42-45.
- Тарнакин (2019) — Тарнакин Н.А. Церковный суд и суд светский: общее и различное в принципах // Вестник Исторического общества. 2019. № 1 (3).